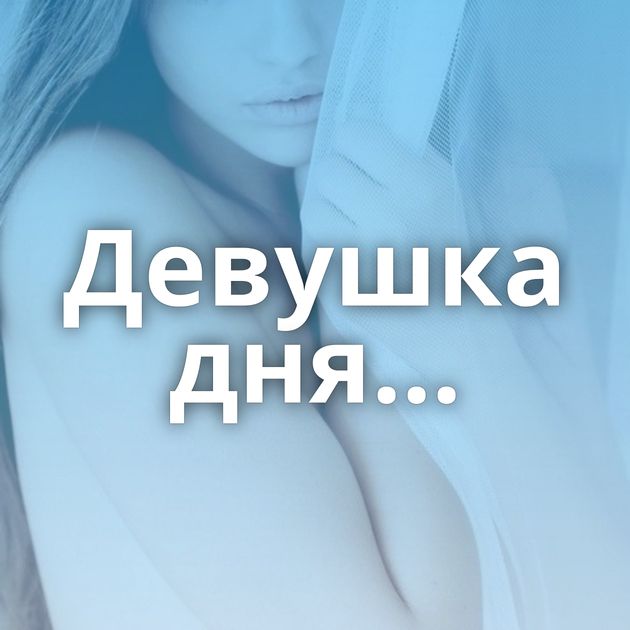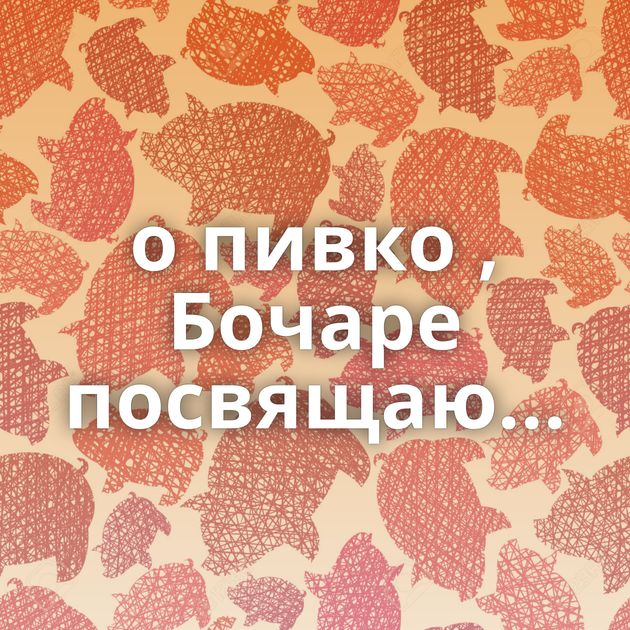23 ноября 2006 года в 23:41
Глубокая осень 1812 года
?? Глубокая осень. А в этой варварской стране идет снег. В то время как дома делают вино из поздних ягод, здесь идет снег. Мороз и чертов ветер. Ощущение такое, словно сейчас этот ветер, пронзивший насквозь мундир своими холодными когтями разрывает тело на маленькие кусочки в надежде добраться до теплого сердца и очень мягко, играючи остудить его. Выпить жизнь из этого инородного пятна плоти посреди белой пустыни, вытереть влажный губы и со злорадной ухмылкой палача, напевая заунывные мотивчики пурги, отправиться дальше в поисках новых жертв. Или продолжит кружится над нелепо скрученным моим телом, зазывая волков к трапезе. Сколько здесь грязи холода и волков? Зачем Император сюда пошел? Что ему нужно было от этой земли?...?
Такие мысли путались в голове бывшего полковника славного кавалерийского корпуса под командованием генерала Мюрата, Рене-Жиля де Шатофонтань. Бывший лихой гусарский полковник теперь брел по заснеженной равнине одетый в лохмотья, сорванные под покровом ночи с какого-то трупа на разбитой артелерийской батарее. Был ли это мундир русский или французский, видно уже не было из за запекшейся крови и налипшей грязи. Лицо, холеное лицо офицера Великой Армии теперь было жалким подобием отдаленно напоминавшим что то высокородное разве что орлиным носом и сильными скулами. Оба эти атрибута физиономического благородства сейчас были выражены наиболее ярко на фоне впалых щек, поросших густой рыжеватой щетиной. Он был похож на кого угодно, вернее на тень кого угодно. Но узнать в нем офицера было невозможно. Но продолжая преодолевать боль, страх голод, жажду и ужасную усталость. Усталость, которая въелась в кости, пропитала их своей желчью и теперь отдавалась вспышкой буроватого пламени в глазах при каждом шаге? Легкие, несколько суток назад разрывавшиеся от морозного ветра, сейчас просто пропускали воздух потому что так нужно. Боли нет, вернее она была, но вычленить ее очаги на общем фоне. Он был сплошная рана, сплошная боль. И только благодаря этому он все еще держался на ногах и шел?
Малышка Мари была восхитительна в одеянии пастушки. Мари де ла Рю, дочь старого маркиза Жескара приятеля отца Рене по африканской компании. Де ла Рю были частыми гостями в их Шато. Ее молодость блистала искрами дворцового фонтана. Ее смех переливался в воздухе трелями иволги. Она веселилась. Была тем самым магнитом, который притягивает к себе все светлое и чистое. Там где она появлялась, словно луч света врывался в мрак повседневности сельской жизни. Ее старый отец души не чаял в своем чаде. Жена Жескара умерла во время родов, и только Мари осталась ему напоминанием о бывшем когда-то счастье. Он отправил ее в престижный пансион мадам Жаклин в Париже, и приезжала домой к отцу каждые две недели.
Рене ее мог видеть еще реже, так как сам проходил обучение в королевской военной академии, а молодым кадетам не так часто удавалось вырваться в родительские пенаты из старых казарм на вие ля Людвик. Это учебное заведение характеризовалось своими строгими нравами, но только его выпускники формировали костяк королевской армии, ее элиту, высшее офицерство. Именно они формировали личную гвардию короля.
Отец Рене, Леонард де Шатофонтань был крайне консервативен в своих взглядах. Их род получил дворянский титул и земли здесь, на югозапади Шампанской провинции еще при Людовике IX Святом за участие в Седьмом крестовом походе. И с тех пор среди виноградных лоз, появился новый герб с гордым мечем рыцаря Христова. Герб де Шатофонтань. И там где раньше была небольшая галльская деревушка Фонтань, вырос небольшой родовой замок.
Леонард любил об этом говорить. Часто собрав детей в библиотеке он поучал их в строгости и верности государю, даже такому распущенному и ненавидимому всеми, вплоть до мелких лавочников где-то в Каннах. Он говорил о чести рода де Шатофонтань , затем спрашивал о подвигах предков. Рене часто засыпал, за что и отхватывал нередко розгой по плечам за свое нерадение.
Но годы шли. И теперь он, кадет престижной военной школы, с залихватски закрученными (насколько это возможно при их длине) усами. В начищенном мундире, стоял под старой липой, среди ветвей которой прошло его детство, и наблюдал за играми детей. Но видел среди них уже только одну Мари? Она тоже похорошела после детства. Яркая девичья фигура уже вполне оформилась, и явно указывала на то, что еще через пару лет, и птичку Мари увезет какой то графский сынок, назвав своей женой. И именно из за таких барышень в стародавние времена крестовых походов и бескомпромиссного благородства, рыцари и крушили друг другу головы и кости на турнирах.
Мари? Да он очень хорошо помнил ее такой. Его Мари? Только ради ее стоило жить и продолжать двигаться не разбирая дороги сквозь заснеженные поля этой варварской страны. Чтобы хоть перед смертью если не обнять ее, то хотя-бы взглянуть в глаза небесной синевы?
Вечерело? В этих местах зимой вообще бывает мало света. А солнца не видно практически никогда. Рене таки набрел на чей-то овин. Можно было отоспаться в тепле, и может найти чем подкрепиться. Ведь последнее что он ел, это была краденая в деревне курица дня три назад. С пропитанием было очень туго. Почти год назад, Великая Армия прошла по этой дороге не оставляя за собой ничего. Даже сжигая деревни. И эта земля не оправилась от разрушений. Слишком свежи были раны. Как по иронии судьбы, сейчас он возвращался той же дорогой.
Как дороги похожи на жизнь. На восток, лицом к солнцу верхом на коне. Победитель! Властелин! И казалось что так будет всегда, а потом, не прошло и пол года. На запад, по пустой заснеженной равнине в грязной одежде и изнуренный до предела. В античной Греции домой из похода возвращались или под щитом или на щите. Но вершиной позора стал этот просвещенный век. Потерявший щит, сломавший меч. Домой. С надеждой на понимание. И нет стыда от того что сумел выжить. Потерял всех, но выжил. Никого не предал, даже верность Императору осталась где то внутри. И именно эта верность и вера в его справедливость и полубожественную прозорливость сейчас толкали вперед подобно как лошадь подталкивает телега на крутом спуске. И как бы ей не хотелось остановиться, приходиться передвигать ногами, ибо тяжесть давящая сзади неистовым напором гораздо больше ее собственного веса. И есть шанс умереть под колесами собственных убеждений.
Овин. Подмороженное сено манит теплом и запахом своей подгнивающей утробы, и ты, прорываешься внутрь через промерзшие внешние слои сухой травы. Которая уже и пахла, разве что морозом. Это ли не бредовое стремление вернуться к первоисточнику. К теплой материнской утробе. Чтобы начать все снова. С самого начала. Чистого листа к которому еще ни разу не прикоснулось гусиное перо провидения. На котором ты сам, перехвативший это перо не наставил жирных клякс разноцветными чернилами. Ведь каждый поступок, даже наверное каждое слово сказанное даже совсем невпопад, имеет свой цвет. И как, наверное, занимательно разглядывать эту аляповатую мазню, лишенную всякого смысла, придя на суд Божий в тот день, когда дух покинет бренное тело и вознесется под жемчужные врата небесного Иерусалима.
Рене зарылся в сено, найдя самое теплое место. В смыкающихся глазах заплясали разноцветные пятна. Миг блаженства и сразу, вдруг как бы ниоткуда глаза любимой. Проявившиеся как образ на холсте под кистью гениального художника. Глаза и голос. Манящий, зовущий за собой. Вдруг стало страшно. Он не мог вспомнить полностью лицо Мари. Не мог вспомнить те смешные веснушки, которые целовал на летней поляне Булонского леса, отдавая должное каждой. Он даже не мог вспомнить румянец, зардевшийся на ее щеках, от внезапного прикосновения самого первого поцелуя. Он даже поцелуй не мог вспомнить. Помнили губы. Помнили пальцы. Вспоминался запах такого же сена. С легкой горчинкой полыни и сладковатым запахом осоки. Все что было связано с ее образом, кроме самого образа. Нет изображения. Только невнятно бормочущий голос, сквозь время и расстояние. Сквозь провал сна.
- Эй, Михалыч, гляди, тут кто то есть. Зарылся в сено. Убогий видать. Забрать его надобно, а то отдаст душу, а мы и не помогли. А ну-ко, подсоби?
Конный разъезд партизан Давыдова частенько заезжал к этому овину. Накормить лошадей, да и самим погреться было не грех. Вот и в этот раз. Трое дородных мужиков в овчинных тулупах, вломились внутрь с лошадями под узцы, посидеть маненько, чтобы потом отправиться снова в патруль по этой равнине. Задание было простым. Хватать подозрительных и вести к старшему на дознание. Он беглых с поля боя французов чуял за пять верст, и поэтому они никогда не возвращались домой без добычи. Но на этот раз.
- Эй ты, божий человек!,- окрикнул спящего Рене тот, которого звали Михалычем,- что здесь делаешь?
Рене проснулся резко. Вот только что перед ним были глаза его любимой, а теперь он видел перед собой лицо бородатого варвара в тулупе, что то бормочащее ему в лицо на своем варварском наречии. Русского он не понимал совершенно. И даже не успев сообразить, так бывает в состоянии шока, всем своим видом решился показать что он немой.
- Гляди, Петрович. Видно точно убогий. И говорить не может. Или язык с голодухи проглотил.
- Не шути так. Здесь пять деревень французы сожгли. Сейчас я его спрошу по-французски, может и поймет, горемыка?
- Если поймет твою поганую брань, то не горемыка он, а сволочь. И гнать я его буду хлыстом до самого дома.
Семья Петровича сгорела в доме. Они прятались подполом. И теперь, видя хоть кого-то похожего на врага, Петрович рубил его с плеча своим старым палашом совершенно не думая.
- Да не горячись ты так. Смотри. И рожа у него русская. Да и глуповатая как у Юродивого Васьки из Затворниц. Мож и вправду наш?
- Парлеву франсе?,- Эта фраза была единственным заимствованием из языка захватчиков. Но ее уж Петрович помнил наизусть. И когда он напивался, кислой браги, умудрялся спросить об этом каждого из их сотни. Добавляя при этом пару матерных и пудовый кулачище в рожу неудачнику, подвернувшегося под горячую руку.
- Так парле или нет!? Второй раз повторять не буду. Разобью рожу в кровь. Чтоб знал как своим дерьмом мою землю поганить. Парле ву, говорю тебе, сученок, франсе?
Он сжал кулак, но тот уже в полете был остановлен напарником.
- Ты чего, Петрович? Почто бить то его решил? А может это и в правду француз? Мне тут до того, когда Батюшка заплатят деньги, и я корову своим смогу купить, всего то пару этих супостатов осталось. А ты его сейчас пришибешь. А если он не француз. А наш. Грех то какой.
Рене не понимал не слова из всего что говорили эти два здоровяка, но интуиция ему подсказывала, что при них лучше изображать глупость, потому что оказаться убитым в данный момент, даже не попрощавшись с любимой, было плевым делом. Поэтому он дрожал, улыбался, мычал и мелко кивал головой в сторону Михалыча, потому что как раз последний выглядел старшим среди двоих. Пустить слюну по подбородку было бы самое то что нужно. Но изнуренный организм никак не хотел выделять жидкость из своего пересохшего нутра.
-Гляди, Петрович? Уж больно этот убогий на простого дурачка заблудившегося похож. Деревень тут в округе много было. Может и сбежал от войны? Давай его в штаб отвезем. Пусть атаман разбирается.
Они связали продолжавшего улыбаться Рене, забросив его на спину вьючной лошади как куль с навозом, отправились в сторону дома?
Шел ноябрь 1812 года. И ничего в этом мире не предвещало лучшего?
© Antti
Такие мысли путались в голове бывшего полковника славного кавалерийского корпуса под командованием генерала Мюрата, Рене-Жиля де Шатофонтань. Бывший лихой гусарский полковник теперь брел по заснеженной равнине одетый в лохмотья, сорванные под покровом ночи с какого-то трупа на разбитой артелерийской батарее. Был ли это мундир русский или французский, видно уже не было из за запекшейся крови и налипшей грязи. Лицо, холеное лицо офицера Великой Армии теперь было жалким подобием отдаленно напоминавшим что то высокородное разве что орлиным носом и сильными скулами. Оба эти атрибута физиономического благородства сейчас были выражены наиболее ярко на фоне впалых щек, поросших густой рыжеватой щетиной. Он был похож на кого угодно, вернее на тень кого угодно. Но узнать в нем офицера было невозможно. Но продолжая преодолевать боль, страх голод, жажду и ужасную усталость. Усталость, которая въелась в кости, пропитала их своей желчью и теперь отдавалась вспышкой буроватого пламени в глазах при каждом шаге? Легкие, несколько суток назад разрывавшиеся от морозного ветра, сейчас просто пропускали воздух потому что так нужно. Боли нет, вернее она была, но вычленить ее очаги на общем фоне. Он был сплошная рана, сплошная боль. И только благодаря этому он все еще держался на ногах и шел?
Малышка Мари была восхитительна в одеянии пастушки. Мари де ла Рю, дочь старого маркиза Жескара приятеля отца Рене по африканской компании. Де ла Рю были частыми гостями в их Шато. Ее молодость блистала искрами дворцового фонтана. Ее смех переливался в воздухе трелями иволги. Она веселилась. Была тем самым магнитом, который притягивает к себе все светлое и чистое. Там где она появлялась, словно луч света врывался в мрак повседневности сельской жизни. Ее старый отец души не чаял в своем чаде. Жена Жескара умерла во время родов, и только Мари осталась ему напоминанием о бывшем когда-то счастье. Он отправил ее в престижный пансион мадам Жаклин в Париже, и приезжала домой к отцу каждые две недели.
Рене ее мог видеть еще реже, так как сам проходил обучение в королевской военной академии, а молодым кадетам не так часто удавалось вырваться в родительские пенаты из старых казарм на вие ля Людвик. Это учебное заведение характеризовалось своими строгими нравами, но только его выпускники формировали костяк королевской армии, ее элиту, высшее офицерство. Именно они формировали личную гвардию короля.
Отец Рене, Леонард де Шатофонтань был крайне консервативен в своих взглядах. Их род получил дворянский титул и земли здесь, на югозапади Шампанской провинции еще при Людовике IX Святом за участие в Седьмом крестовом походе. И с тех пор среди виноградных лоз, появился новый герб с гордым мечем рыцаря Христова. Герб де Шатофонтань. И там где раньше была небольшая галльская деревушка Фонтань, вырос небольшой родовой замок.
Леонард любил об этом говорить. Часто собрав детей в библиотеке он поучал их в строгости и верности государю, даже такому распущенному и ненавидимому всеми, вплоть до мелких лавочников где-то в Каннах. Он говорил о чести рода де Шатофонтань , затем спрашивал о подвигах предков. Рене часто засыпал, за что и отхватывал нередко розгой по плечам за свое нерадение.
Но годы шли. И теперь он, кадет престижной военной школы, с залихватски закрученными (насколько это возможно при их длине) усами. В начищенном мундире, стоял под старой липой, среди ветвей которой прошло его детство, и наблюдал за играми детей. Но видел среди них уже только одну Мари? Она тоже похорошела после детства. Яркая девичья фигура уже вполне оформилась, и явно указывала на то, что еще через пару лет, и птичку Мари увезет какой то графский сынок, назвав своей женой. И именно из за таких барышень в стародавние времена крестовых походов и бескомпромиссного благородства, рыцари и крушили друг другу головы и кости на турнирах.
Мари? Да он очень хорошо помнил ее такой. Его Мари? Только ради ее стоило жить и продолжать двигаться не разбирая дороги сквозь заснеженные поля этой варварской страны. Чтобы хоть перед смертью если не обнять ее, то хотя-бы взглянуть в глаза небесной синевы?
Вечерело? В этих местах зимой вообще бывает мало света. А солнца не видно практически никогда. Рене таки набрел на чей-то овин. Можно было отоспаться в тепле, и может найти чем подкрепиться. Ведь последнее что он ел, это была краденая в деревне курица дня три назад. С пропитанием было очень туго. Почти год назад, Великая Армия прошла по этой дороге не оставляя за собой ничего. Даже сжигая деревни. И эта земля не оправилась от разрушений. Слишком свежи были раны. Как по иронии судьбы, сейчас он возвращался той же дорогой.
Как дороги похожи на жизнь. На восток, лицом к солнцу верхом на коне. Победитель! Властелин! И казалось что так будет всегда, а потом, не прошло и пол года. На запад, по пустой заснеженной равнине в грязной одежде и изнуренный до предела. В античной Греции домой из похода возвращались или под щитом или на щите. Но вершиной позора стал этот просвещенный век. Потерявший щит, сломавший меч. Домой. С надеждой на понимание. И нет стыда от того что сумел выжить. Потерял всех, но выжил. Никого не предал, даже верность Императору осталась где то внутри. И именно эта верность и вера в его справедливость и полубожественную прозорливость сейчас толкали вперед подобно как лошадь подталкивает телега на крутом спуске. И как бы ей не хотелось остановиться, приходиться передвигать ногами, ибо тяжесть давящая сзади неистовым напором гораздо больше ее собственного веса. И есть шанс умереть под колесами собственных убеждений.
Овин. Подмороженное сено манит теплом и запахом своей подгнивающей утробы, и ты, прорываешься внутрь через промерзшие внешние слои сухой травы. Которая уже и пахла, разве что морозом. Это ли не бредовое стремление вернуться к первоисточнику. К теплой материнской утробе. Чтобы начать все снова. С самого начала. Чистого листа к которому еще ни разу не прикоснулось гусиное перо провидения. На котором ты сам, перехвативший это перо не наставил жирных клякс разноцветными чернилами. Ведь каждый поступок, даже наверное каждое слово сказанное даже совсем невпопад, имеет свой цвет. И как, наверное, занимательно разглядывать эту аляповатую мазню, лишенную всякого смысла, придя на суд Божий в тот день, когда дух покинет бренное тело и вознесется под жемчужные врата небесного Иерусалима.
Рене зарылся в сено, найдя самое теплое место. В смыкающихся глазах заплясали разноцветные пятна. Миг блаженства и сразу, вдруг как бы ниоткуда глаза любимой. Проявившиеся как образ на холсте под кистью гениального художника. Глаза и голос. Манящий, зовущий за собой. Вдруг стало страшно. Он не мог вспомнить полностью лицо Мари. Не мог вспомнить те смешные веснушки, которые целовал на летней поляне Булонского леса, отдавая должное каждой. Он даже не мог вспомнить румянец, зардевшийся на ее щеках, от внезапного прикосновения самого первого поцелуя. Он даже поцелуй не мог вспомнить. Помнили губы. Помнили пальцы. Вспоминался запах такого же сена. С легкой горчинкой полыни и сладковатым запахом осоки. Все что было связано с ее образом, кроме самого образа. Нет изображения. Только невнятно бормочущий голос, сквозь время и расстояние. Сквозь провал сна.
- Эй, Михалыч, гляди, тут кто то есть. Зарылся в сено. Убогий видать. Забрать его надобно, а то отдаст душу, а мы и не помогли. А ну-ко, подсоби?
Конный разъезд партизан Давыдова частенько заезжал к этому овину. Накормить лошадей, да и самим погреться было не грех. Вот и в этот раз. Трое дородных мужиков в овчинных тулупах, вломились внутрь с лошадями под узцы, посидеть маненько, чтобы потом отправиться снова в патруль по этой равнине. Задание было простым. Хватать подозрительных и вести к старшему на дознание. Он беглых с поля боя французов чуял за пять верст, и поэтому они никогда не возвращались домой без добычи. Но на этот раз.
- Эй ты, божий человек!,- окрикнул спящего Рене тот, которого звали Михалычем,- что здесь делаешь?
Рене проснулся резко. Вот только что перед ним были глаза его любимой, а теперь он видел перед собой лицо бородатого варвара в тулупе, что то бормочащее ему в лицо на своем варварском наречии. Русского он не понимал совершенно. И даже не успев сообразить, так бывает в состоянии шока, всем своим видом решился показать что он немой.
- Гляди, Петрович. Видно точно убогий. И говорить не может. Или язык с голодухи проглотил.
- Не шути так. Здесь пять деревень французы сожгли. Сейчас я его спрошу по-французски, может и поймет, горемыка?
- Если поймет твою поганую брань, то не горемыка он, а сволочь. И гнать я его буду хлыстом до самого дома.
Семья Петровича сгорела в доме. Они прятались подполом. И теперь, видя хоть кого-то похожего на врага, Петрович рубил его с плеча своим старым палашом совершенно не думая.
- Да не горячись ты так. Смотри. И рожа у него русская. Да и глуповатая как у Юродивого Васьки из Затворниц. Мож и вправду наш?
- Парлеву франсе?,- Эта фраза была единственным заимствованием из языка захватчиков. Но ее уж Петрович помнил наизусть. И когда он напивался, кислой браги, умудрялся спросить об этом каждого из их сотни. Добавляя при этом пару матерных и пудовый кулачище в рожу неудачнику, подвернувшегося под горячую руку.
- Так парле или нет!? Второй раз повторять не буду. Разобью рожу в кровь. Чтоб знал как своим дерьмом мою землю поганить. Парле ву, говорю тебе, сученок, франсе?
Он сжал кулак, но тот уже в полете был остановлен напарником.
- Ты чего, Петрович? Почто бить то его решил? А может это и в правду француз? Мне тут до того, когда Батюшка заплатят деньги, и я корову своим смогу купить, всего то пару этих супостатов осталось. А ты его сейчас пришибешь. А если он не француз. А наш. Грех то какой.
Рене не понимал не слова из всего что говорили эти два здоровяка, но интуиция ему подсказывала, что при них лучше изображать глупость, потому что оказаться убитым в данный момент, даже не попрощавшись с любимой, было плевым делом. Поэтому он дрожал, улыбался, мычал и мелко кивал головой в сторону Михалыча, потому что как раз последний выглядел старшим среди двоих. Пустить слюну по подбородку было бы самое то что нужно. Но изнуренный организм никак не хотел выделять жидкость из своего пересохшего нутра.
-Гляди, Петрович? Уж больно этот убогий на простого дурачка заблудившегося похож. Деревень тут в округе много было. Может и сбежал от войны? Давай его в штаб отвезем. Пусть атаман разбирается.
Они связали продолжавшего улыбаться Рене, забросив его на спину вьючной лошади как куль с навозом, отправились в сторону дома?
Шел ноябрь 1812 года. И ничего в этом мире не предвещало лучшего?
© Antti
Loading...
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также