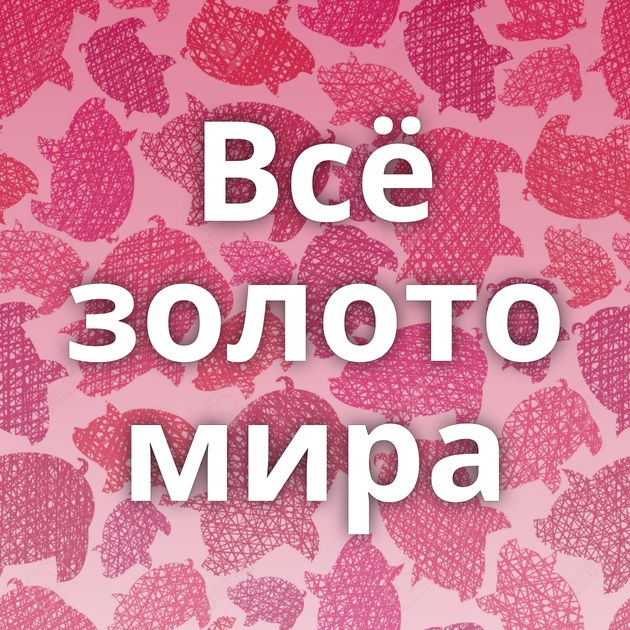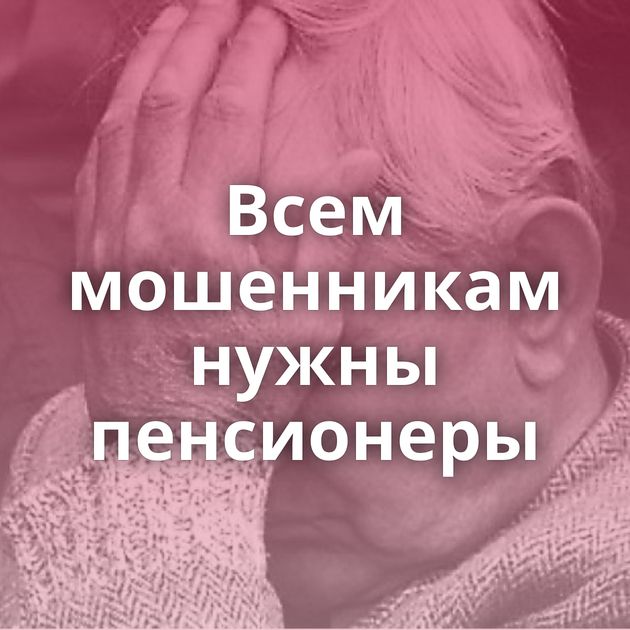25 февраля 2010 года в 20:02
Из истории советской литературы
Послеполуденное солнце заглянуло в окно кабинета и привычно поморщилось. Повсюду разбросаны скомканные листы, на ковре рассыпаны папиросные окурки. Четыре пустых бутылки и полуоткрытая банка вонючих шпрот на подоконнике гармонично оттеняли храпящего в вольтеровском кресле старичка, с обширной лысиной и профессорской бородкой.
На другом конце коридора бескрайней квартиры задребезжал звонок, послышалось шарканье и щелчок открываемого замка.
- Михал Михалыч дома?
- У себя он, Виталий Валентинович. Не велел беспокоить. Говорит - буду "Корень жизни" прорабатывать.
- Ну, ничего, я на минутку к нему только. Совет нужен.
Старичок мгновенно проснулся, в одно движение водрузил в центр лысины ермолку и снял с подоконника бутылки. Помедлив, сунул за батарею шпроты, уселся перед "Ундервудом", нахмурившись и надув щеки.
Дверь с грохотом распахнулась. Усатый круглолицый мужчина в чесучовом кителе влетел в кабинет и завопил, заламывая руки и отчаянно жестикулируя портфелем: "Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь шумели, спать не давали. Что такое случилось?! Тьфу! Простите, Михал Михалыч, не хотел, само вырвалось...".
Старичок задумчиво косился на него мутным глазом и молчал, тупо глядя на пишущую машинку, в каретке которой белел лист с заголовком "Зеленый шум".
"Михалыч? Эй? Это я, Бианки. Ты чего? Опять?!", - озаботился круглолицый. Старичок нашарил под задницей изрядно погнувшиеся очки, нацепил их на нос и прошамкал, похмельно причмокивая: "Вы, э, мнээ, ко мне, эээ? Пришвин моя, мнэээ, фамилия, мня". "Ах ты, вот незадача, - забормотал круглолицый, - вот как не вовремя-то, а?" Рука его ловко нырнула в портфель, выуживая бутылку "Мартовского".
Старичок весь подобрался, унял поднявшийся тремор и хищно выхватил чебурашечку темного стекла, моментально сковырнув заскорузлым ногтем крышку. Три громких глотка щелкнули в тишине, зазвенела пустая тара, отброшенная в угол. "Ааа, бля, - протяжно выдохнул Пришвин, - вееещщщь!" И уже осмысленно воззрился на Бианки:
- Сколько времени?
- Да уж третий час, Михал Михалыч.
- Ага. Ты посиди-ка тут, Виталий Валентиныч, я сейчас. Вдохновение нахлынуло. Надо срочно приблизиться к природе, к деревьям. Троячок дай-ка.
- Да не надо, - вздохнул Бианки, - у меня с собой все.
- Есть?! И молчит, главное! Ну ты член... Союза писателей! Нет, все-таки родство душ - великое дело. Природовед природоведа всегда поймет, - вещал Пришвин, протирая незаправленной в брюки рубашкой замаслившийся стакан.
- На то и уповаю, Михал Михалыч...
- Ты наливай давай, а уповать потом будешь! - перебил его Пришвин, нервно облизываясь, - знаешь же, как я измучен своим талантом!
И немедленно выпил, восклицательно оттопырив мизинец.
Бианки зажмурился, судорожно сглотнул полстакана, жалобно пискнув. Писатели помолчали, прислушиваясь к ощущениям.
- Ну, чего пришел-то, юное дарование? - лениво осведомился Пришвин.
- Кризис, Михалыч... Нет больше моих творческих сил про природу про эту расписывать.
- А ты про стройки, милок, про шахты давай. В колхозах у нас еще поле непаханое, деревня советская не охвачена. Ты ж способный парень, Виталя! Расти давай над собой. Улучшайся!
- Ох, Михал Михалыч, в наше-то время неспокойное напишешь чего не того про индустрию или про аграрные, значит, достижения - и привет... Пойдешь на практике осваивать. Личным вкладом, так сказать. Уж вам ли не знать...
- Дааа... Было дело, - затуманился воспоминанием Пришвин, - пришли за мной как-то чекисты, еле ушел от псов. Три года по Дальнему Востоку шарился, типа материал для книги собирал. А люди меня уважали, это да. Натуралист погоняло мое было. Эх, Виталя, нелегко биографам придется. Извилистая жизнь моя была.
Вот батюшка мой, Михал Дмитрич, упокой Господи душу его. Жил себе, жил. орловских рысаков водил, призы на скачках брали, цветочки выращивал, охоту любил. Ну и баб, тут он тоже охотник был, дай Бог каждому, хе-хе-хе. А вот однажды присел в картишки, да и спустил все заезжему шпильмейстеру. Конный завод продал, имение заложил... Да на почве алкоголизма-то и умер. Так что весь я в батюшку пошел. Я ж чего квартирку-то себе на шестом этаже выхлопотал, Виталя? А чтоб супружница моя, Ефросинья Пална, дай ей Бог здоровья, пореже в Москву приезжала. Она на лифте подниматься боится, а пешочком не находишься. А я в отсутствие ея холостякую помаленьку. Машинисточки, корректорши, то, се.
Или вот помню, в девятнадцатом в Ельце казаки мамонтовские чуть в расход меня не определили, за еврея приняли. Ох, и туго пришлось. А знаешь, кто меня из гимназии выгнал? Сам Розанов, Василь Васильич, религиозный, понимаешь, философ, а в то время заштатный учитель географии Елецкой гимназии. Мдаа... Или вот, помню...
- И не говорите, Михал Михалыч, - прервал Бианки безудержный поток сознания, - сам трижды под арестом был. А ведь только о цветочках да о пчелках пишу. Но нету больше никаких сил. Осточертели они мне! Пришел к вам, как к старшему товарищу. Посоветоваться, значит. Как с творческим кризисом справиться. А то хана мне, Михалыч. Хоть к станку становись.
- Ишь ты, ученичок. Так вот тебе и выложи все секреты мастерства. Самому доходить надобно!
Бианки мгновенно водрузил в центр стола очередную поллитру.
- Соображаешь, Виталя, стервец. Ладно, слушай сюда. Все мы люди-человеки. Или думаешь мне эти картины природы в зубах не навязли? Настоящий литератор должен отдушину иметь. Но и не в стол писать, иначе на стакан сядешь, однозначно. А я вот, Виталий, такой себе форганг соорудил. Пишу зарисовки из природной, стало быть, жизни, да только до самого до ее естества дохожу. До потаенных, понимаешь, сторон.
И оченно эти писания мои в среде интеллигентской, кою в век серебряный богемой именовали, популярны. А энкаведе знает, а как же. Но - возражений не имеют, ибо политики никакой и нету, а так - одна фривольность, полет озабоченного воображения. Вот, для примеру, рассказик тебе, из похождений серого волка, Canis, так сказать, lupus. Или - подлинная история Красной Шапочки. На-ка, взгляни.
Бианки зашуршал истрепанными машинописными страницами. Уши и щеки его по мере чтения наливались стыдливым багрянцем, он возбужденно ерзал в кресле и, окончив чтение, изумленно воззрился на Пришвина.
- А ты чего себе думал, что старик Михалыч только про пестики-тычинки строчить могёт? Вам, салагам, до старой гвардии еще расти да расти, - ухмыльнулся в бородку Пришвин.
- Потрясающе, Михал Михалыч! Да Арцыбашев просто графоман недоделанный по сравнению с вами! Прямо до самых интимных струн души достает!
- Ну, вот и славненько. Хоть и застолбил я уже этот участок, но тебе для разгону разрешаю в том же духе чего-нито прописать. На почин. Давай дуй творить. А то заболтался я с тобой. Меня тоже муза зовет. Чего там в портфельчике осталось? Туда вон в шкафчик определи. Эх, молодо-зелено!
* * *
Через две недели благодушно опохмелившийся Пришвин созерцал из окна здание Третьяковской галереи, мурлыкал под нос "Шарабан-американка" и усмирял стопкою ревматические боли, когда дверь кабинета с грохотом распахнулась, и запыхавшийся Бианки выхватил из портфеля картонную папку:
- Вот!
- Дали ему год. Потом добавили и еще на год оставили. Чего врываешься как заполошный?
- Написал, Михал Михалыч! Это самое, богемное!
- Ну, событие... Литературный мир содрогнется. Зашумят по всем углам - Бианки-то вон чего написал! Ладно, не кипишись, юноша. Присядь пока. Щас проштудируем плод бессонных терзаний.
И Пришвин принял из дрожащих рук Бианки папку с чернильной надписью "Лес", и чуть пониже - "Бианки".
- Это что тут? - поднял кустистую бровь Пришвин.
- А это вот... Игра слов. Каламбурчик-с, - нервно засловоерсил Бианки, - Лес, Бианки... А если вот вместе прочесть, то...
- И про что же каламбурчик твой повествует? - недобро глянул Пришвин.
- А про лисичек... Про двух... Про шалости ихние совместные, женского свойства, - пролепетал Бианки, бледнея под взором мастера.
- Ах ты пидор нееебаный! - вдруг ощерился Пришвин, - ты мне, романисту в законе, что тут втереть вздумал?! Да ты, мразь, знаешь, кто ты есть по жизни? Ты ж меня, падла, зашкварил этой вот хуйней! Сафо обчитался на ночь, сука? Слышь, ты, певец однополой любви, хана тебе! Это я тебе говорю, Натуралист!
Пришвин выхватил из-под стола увесистую дубовую трость, в торце которой был вклинен заточенный напильник, и с размаху врезал набалдашником в висок Бианки. Тот рухнул на ковер, а Пришвин, хищно оскалившись, нацелил напильник в горло. Однако Бианки с необычайным для комплекции проворством в последнее мгновение отбил трость и рванулся в сторону. Промахнувшееся острие увязло в паркете. Налетая на стены, Бианки с выпученными глазами пронесся по коридору и судорожно зашарил по двери, отыскивая в темноте замки. Пришвин с трудом выдернул трость, прихрамывая, шагнул в коридор и метнул ее на манер копья: "Нна, педрила!".
Пронзительно взвизгнув, Бианки вылетел из квартиры и, споткнувшись, покатился по ступеням вниз. Пришвин тяжело выдохнул, взявшись за сердце, и сел на пол, держась за сердце.
- Ну, все, Виталя! Пиздец тебе. Зуб даю, спрошу я с тебя на секретариате. Будет тебе определение по масти. Эх, Миша, Миша, старый ты мудозвон... Да уж чего теперь. Отвечу и я за косяк за свой. А только не дам жизни полупокерам . Эх, сичас выпить-ба..., - подумалось Пришвину.
Товарищ Киров
На другом конце коридора бескрайней квартиры задребезжал звонок, послышалось шарканье и щелчок открываемого замка.
- Михал Михалыч дома?
- У себя он, Виталий Валентинович. Не велел беспокоить. Говорит - буду "Корень жизни" прорабатывать.
- Ну, ничего, я на минутку к нему только. Совет нужен.
Старичок мгновенно проснулся, в одно движение водрузил в центр лысины ермолку и снял с подоконника бутылки. Помедлив, сунул за батарею шпроты, уселся перед "Ундервудом", нахмурившись и надув щеки.
Дверь с грохотом распахнулась. Усатый круглолицый мужчина в чесучовом кителе влетел в кабинет и завопил, заламывая руки и отчаянно жестикулируя портфелем: "Вы что, воробьи, раскричались? И люди сегодня всю ночь шумели, спать не давали. Что такое случилось?! Тьфу! Простите, Михал Михалыч, не хотел, само вырвалось...".
Старичок задумчиво косился на него мутным глазом и молчал, тупо глядя на пишущую машинку, в каретке которой белел лист с заголовком "Зеленый шум".
"Михалыч? Эй? Это я, Бианки. Ты чего? Опять?!", - озаботился круглолицый. Старичок нашарил под задницей изрядно погнувшиеся очки, нацепил их на нос и прошамкал, похмельно причмокивая: "Вы, э, мнээ, ко мне, эээ? Пришвин моя, мнэээ, фамилия, мня". "Ах ты, вот незадача, - забормотал круглолицый, - вот как не вовремя-то, а?" Рука его ловко нырнула в портфель, выуживая бутылку "Мартовского".
Старичок весь подобрался, унял поднявшийся тремор и хищно выхватил чебурашечку темного стекла, моментально сковырнув заскорузлым ногтем крышку. Три громких глотка щелкнули в тишине, зазвенела пустая тара, отброшенная в угол. "Ааа, бля, - протяжно выдохнул Пришвин, - вееещщщь!" И уже осмысленно воззрился на Бианки:
- Сколько времени?
- Да уж третий час, Михал Михалыч.
- Ага. Ты посиди-ка тут, Виталий Валентиныч, я сейчас. Вдохновение нахлынуло. Надо срочно приблизиться к природе, к деревьям. Троячок дай-ка.
- Да не надо, - вздохнул Бианки, - у меня с собой все.
- Есть?! И молчит, главное! Ну ты член... Союза писателей! Нет, все-таки родство душ - великое дело. Природовед природоведа всегда поймет, - вещал Пришвин, протирая незаправленной в брюки рубашкой замаслившийся стакан.
- На то и уповаю, Михал Михалыч...
- Ты наливай давай, а уповать потом будешь! - перебил его Пришвин, нервно облизываясь, - знаешь же, как я измучен своим талантом!
И немедленно выпил, восклицательно оттопырив мизинец.
Бианки зажмурился, судорожно сглотнул полстакана, жалобно пискнув. Писатели помолчали, прислушиваясь к ощущениям.
- Ну, чего пришел-то, юное дарование? - лениво осведомился Пришвин.
- Кризис, Михалыч... Нет больше моих творческих сил про природу про эту расписывать.
- А ты про стройки, милок, про шахты давай. В колхозах у нас еще поле непаханое, деревня советская не охвачена. Ты ж способный парень, Виталя! Расти давай над собой. Улучшайся!
- Ох, Михал Михалыч, в наше-то время неспокойное напишешь чего не того про индустрию или про аграрные, значит, достижения - и привет... Пойдешь на практике осваивать. Личным вкладом, так сказать. Уж вам ли не знать...
- Дааа... Было дело, - затуманился воспоминанием Пришвин, - пришли за мной как-то чекисты, еле ушел от псов. Три года по Дальнему Востоку шарился, типа материал для книги собирал. А люди меня уважали, это да. Натуралист погоняло мое было. Эх, Виталя, нелегко биографам придется. Извилистая жизнь моя была.
Вот батюшка мой, Михал Дмитрич, упокой Господи душу его. Жил себе, жил. орловских рысаков водил, призы на скачках брали, цветочки выращивал, охоту любил. Ну и баб, тут он тоже охотник был, дай Бог каждому, хе-хе-хе. А вот однажды присел в картишки, да и спустил все заезжему шпильмейстеру. Конный завод продал, имение заложил... Да на почве алкоголизма-то и умер. Так что весь я в батюшку пошел. Я ж чего квартирку-то себе на шестом этаже выхлопотал, Виталя? А чтоб супружница моя, Ефросинья Пална, дай ей Бог здоровья, пореже в Москву приезжала. Она на лифте подниматься боится, а пешочком не находишься. А я в отсутствие ея холостякую помаленьку. Машинисточки, корректорши, то, се.
Или вот помню, в девятнадцатом в Ельце казаки мамонтовские чуть в расход меня не определили, за еврея приняли. Ох, и туго пришлось. А знаешь, кто меня из гимназии выгнал? Сам Розанов, Василь Васильич, религиозный, понимаешь, философ, а в то время заштатный учитель географии Елецкой гимназии. Мдаа... Или вот, помню...
- И не говорите, Михал Михалыч, - прервал Бианки безудержный поток сознания, - сам трижды под арестом был. А ведь только о цветочках да о пчелках пишу. Но нету больше никаких сил. Осточертели они мне! Пришел к вам, как к старшему товарищу. Посоветоваться, значит. Как с творческим кризисом справиться. А то хана мне, Михалыч. Хоть к станку становись.
- Ишь ты, ученичок. Так вот тебе и выложи все секреты мастерства. Самому доходить надобно!
Бианки мгновенно водрузил в центр стола очередную поллитру.
- Соображаешь, Виталя, стервец. Ладно, слушай сюда. Все мы люди-человеки. Или думаешь мне эти картины природы в зубах не навязли? Настоящий литератор должен отдушину иметь. Но и не в стол писать, иначе на стакан сядешь, однозначно. А я вот, Виталий, такой себе форганг соорудил. Пишу зарисовки из природной, стало быть, жизни, да только до самого до ее естества дохожу. До потаенных, понимаешь, сторон.
И оченно эти писания мои в среде интеллигентской, кою в век серебряный богемой именовали, популярны. А энкаведе знает, а как же. Но - возражений не имеют, ибо политики никакой и нету, а так - одна фривольность, полет озабоченного воображения. Вот, для примеру, рассказик тебе, из похождений серого волка, Canis, так сказать, lupus. Или - подлинная история Красной Шапочки. На-ка, взгляни.
Бианки зашуршал истрепанными машинописными страницами. Уши и щеки его по мере чтения наливались стыдливым багрянцем, он возбужденно ерзал в кресле и, окончив чтение, изумленно воззрился на Пришвина.
- А ты чего себе думал, что старик Михалыч только про пестики-тычинки строчить могёт? Вам, салагам, до старой гвардии еще расти да расти, - ухмыльнулся в бородку Пришвин.
- Потрясающе, Михал Михалыч! Да Арцыбашев просто графоман недоделанный по сравнению с вами! Прямо до самых интимных струн души достает!
- Ну, вот и славненько. Хоть и застолбил я уже этот участок, но тебе для разгону разрешаю в том же духе чего-нито прописать. На почин. Давай дуй творить. А то заболтался я с тобой. Меня тоже муза зовет. Чего там в портфельчике осталось? Туда вон в шкафчик определи. Эх, молодо-зелено!
* * *
Через две недели благодушно опохмелившийся Пришвин созерцал из окна здание Третьяковской галереи, мурлыкал под нос "Шарабан-американка" и усмирял стопкою ревматические боли, когда дверь кабинета с грохотом распахнулась, и запыхавшийся Бианки выхватил из портфеля картонную папку:
- Вот!
- Дали ему год. Потом добавили и еще на год оставили. Чего врываешься как заполошный?
- Написал, Михал Михалыч! Это самое, богемное!
- Ну, событие... Литературный мир содрогнется. Зашумят по всем углам - Бианки-то вон чего написал! Ладно, не кипишись, юноша. Присядь пока. Щас проштудируем плод бессонных терзаний.
И Пришвин принял из дрожащих рук Бианки папку с чернильной надписью "Лес", и чуть пониже - "Бианки".
- Это что тут? - поднял кустистую бровь Пришвин.
- А это вот... Игра слов. Каламбурчик-с, - нервно засловоерсил Бианки, - Лес, Бианки... А если вот вместе прочесть, то...
- И про что же каламбурчик твой повествует? - недобро глянул Пришвин.
- А про лисичек... Про двух... Про шалости ихние совместные, женского свойства, - пролепетал Бианки, бледнея под взором мастера.
- Ах ты пидор нееебаный! - вдруг ощерился Пришвин, - ты мне, романисту в законе, что тут втереть вздумал?! Да ты, мразь, знаешь, кто ты есть по жизни? Ты ж меня, падла, зашкварил этой вот хуйней! Сафо обчитался на ночь, сука? Слышь, ты, певец однополой любви, хана тебе! Это я тебе говорю, Натуралист!
Пришвин выхватил из-под стола увесистую дубовую трость, в торце которой был вклинен заточенный напильник, и с размаху врезал набалдашником в висок Бианки. Тот рухнул на ковер, а Пришвин, хищно оскалившись, нацелил напильник в горло. Однако Бианки с необычайным для комплекции проворством в последнее мгновение отбил трость и рванулся в сторону. Промахнувшееся острие увязло в паркете. Налетая на стены, Бианки с выпученными глазами пронесся по коридору и судорожно зашарил по двери, отыскивая в темноте замки. Пришвин с трудом выдернул трость, прихрамывая, шагнул в коридор и метнул ее на манер копья: "Нна, педрила!".
Пронзительно взвизгнув, Бианки вылетел из квартиры и, споткнувшись, покатился по ступеням вниз. Пришвин тяжело выдохнул, взявшись за сердце, и сел на пол, держась за сердце.
- Ну, все, Виталя! Пиздец тебе. Зуб даю, спрошу я с тебя на секретариате. Будет тебе определение по масти. Эх, Миша, Миша, старый ты мудозвон... Да уж чего теперь. Отвечу и я за косяк за свой. А только не дам жизни полупокерам . Эх, сичас выпить-ба..., - подумалось Пришвину.
Товарищ Киров
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также