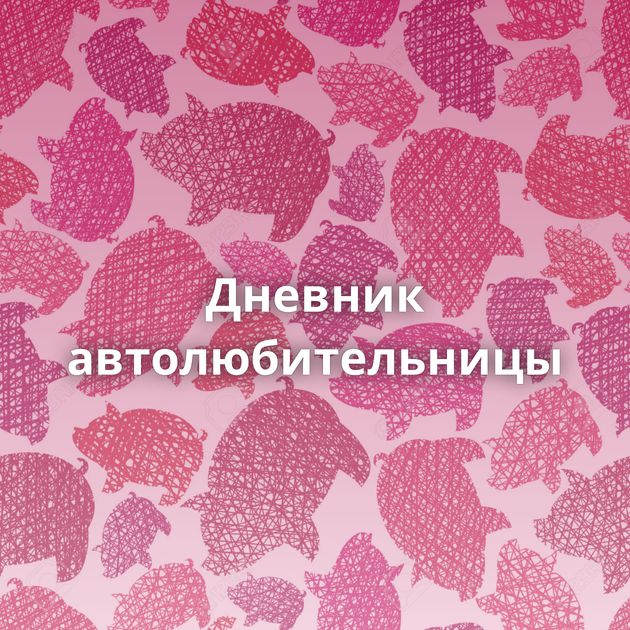31 августа 2009 года в 15:03
С берёз неслышен, невесом?
В белом боку берёзы торчал осколок снаряда, по нему стекал и капал сок. Равномерно, без толку, просто в пыль.
Лёва Задов с детства не любил берёзового сока. Это лакомство, да ещё семечки, были единственными доступными для нищей и многодетной еврейской семьи. Бывало, по дороге из хедера Лёва с братьями до одури напивался прозрачной берёзовой крови, она на время заглушала ноющую, голодную боль в желудке.
Задов не любил вспоминать детство. Он любил кавалерийскую атаку и ещё три вещи, тоже на букву "к" - коньяк, кокаин, красоток. Потому и загнал свой бронепоезд под ударный огонь белогвардейской артиллерии. Ведь намедни был таков, что вполне мог загнать его евреям на Привозе и получить по шапке от батьки.
Снаружи поезд щетинился паркими, стальными стволами максимов.
Внутри, в раскалённом вагоне, стоял едкий запах пороха и обугленного дерева, смешанный с винным перегаром и сладкой вонью горелой человеческой плоти. Броня на задней стенке вагона была раскурочена снарядом, края дыры загибались внутрь элегантно, как лепестки чайной розы, сияли зазубринами.
Посреди вагона лежал труп человека со сломанной шеей, испитым, мрачным лицом, с широко раскинутыми ногами, в тельняшке, почерневшей от гари, грязи и крови. Человек равнодушно смотрел вперёд, он закончил все свои дела, теперь просто отдыхал. По всему вагону были разбросаны куски патронных ящиков вперемешку с лентами.
Движение происходило только в переднем конце вагона.
Толстый матрос Калёма трясся у бойницы. Вцепился руками в пулемёт, как в грудь портовой шлюхи, и содрогался от его мощного тела. Задорный стрёкот Калёма пытался перекрыть отборной матерной бранью. Бой закончился десять минут назад, но оторвать матроса от бойницы было невозможно, ждали, когда закончатся патроны.
- Хорош палить, Калёма! - гаркнул Задов, вбегая в вагон. - Ребята выйти на перрон боятся.
Контуженый боец не слышал, он дико вращал глазами, нашаривая очередную ленту. Лёва подошёл к матросу и тяжело опустил огромный, пудовый кулак ему на плечо.
- Шабаш, - примирительно бросил Лёва.
Калёма отпал от бойницы. Он опустился на корточки и замер, обхватив свою бритую голову чёрными от масла ладонями. Пулемёт чихнул, и, наконец, затих.
Бой начался внезапно. Счастье, что белогвардейцы не ждали у себя в тылу бронепоезд с толпой разгульных анархистов. Счастье, что все четыре орудия поезда зарядили ещё с вечера. Счастье, что батарея белых была сметена с первого же залпа.
Счастье, счастье, счастье - одно на всех. Да лихое бандитское везенье. Кому его не хватало - ложился в сырую постель. Полную матушку землю набили несчастливцами, обильно полили кровью и слезами сиротскими. А Лёвка Задов всегда выходил живым, любимчик удачи и правая рука батьки.
Рука правая, карающая по вольному степному праву.
- Ты, Лёвка, счастливый, удачливый и рисковый. Люблю таких, - говорил Махно, и Задову легко сходило с рук то, за что любой другой сплясал бы польку в воздухе.
Сколько раз Лёва прикрывал спину Нестора в сечи, когда кавалеристы лавиной летели друг на друга. Когда две силы, две стихии сходились в смертном бою.
Удар! Пошла резня.
Звон клинков пел в его сердце страстной музыкой, богатырский рост позволял пополам, до седла, развалить врага. А безрассудный Махно всегда бросался в гущу боя. Летел впереди, рубил наотмашь, и Лёва был готов поклясться: в этот момент за спиной у батьки вырастали орлиные крылья.
Шла молва, что когда новорожденного Нестора крестили, на священнике вспыхнула риза, а последней зимой батька поймал на вокзале попа, что пытался удрать с церковной утварью, облил его керосином и сжёг в бочке живьём.
Только от пуль и шашек Нестор заговоренным не был, и Лёва трижды выносил его, раненого, с поля боя. Прокладывал себе дорогу среди живых, по кровавой каше из человечьих и лошадиных тел.
- Меня-то, братец, ты любишь, знаю, - говаривал ему Махно, - а любишь ли ты народ? Людей любить надо и справедливость беречь.
- Да и я, батька, люблю, чтоб по совести, - возражал Задов.
- Нет, братец. Совесть - она у каждого своя, и, правда, как рваная тряпка, у каждого своя, а справедливость должна быть единой. Она ко многим слишком поздно приходит.
Задов глянул на скорченного у стены Калёму, переступил ящики, мертвеца в тельняшке и вышел на перрон.
Железную дорогу и часть вокзала раскурочило взрывами. Рельсы торчали во все стороны, как сломанные карандаши. Пороховое курево ещё не осело после боя. В густом воздухе висела пыль, под сапогами анархиста хрустела кирпичная крошка. Где-то громко кричала и билась раненая лошадь, потом раздался ружейный выстрел, и наступила тишина. К Задову подскочил боец в папахе. Из неё торчала красная, худая, чумазая и усатая рожа.
- Лёва, пленных полно, - сказала рожа, - чё делать будешь?
- Где? - вяло спросил Задов, достал из кармана генеральского галифе флягу и крепко приложился.
Спиртное обожгло горло, согрело нутро.
- Построили, глянь, - сказал боец.
Задов припомнил - батька приказал пленных не брать. Но посмотреть всё равно было надо. Чем ещё могли развлечься усталые глаза, отвернувшись от разорванной подковами империи? Лёва пошёл смотреть.
Пленных белогвардейцев было около двадцати: солдаты, юнкера, пара офицеров. Многие уже стояли в пыли босыми - анархисты успели стянуть английские ботинки. Блестели на весеннем солнышке погоны, напряжённо смотрели глаза. Задов медленно пошёл вдоль строя, вглядываясь в лица пленных и добродушно улыбаясь всем своим широким и простым лицом.
"Справедливость, говоришь, не люблю... - думал он. - Людей не люблю... Так за что же их любить, батька?"
Вдруг его внимание привлёк офицер с длинной чёлкой светлых волос, с миной честного, благородного, мужественного человека. Лёва остановился и навис над пленным, как большой вопросительный знак.
"А ну, ковырну..." - подумал он.
- Ну что, ваше благородие, чего делать будем, а? - спросил Задов и приложился к фляжке.
Штабс-капитан молчал. Погоны золотились.
- Пленные мене не с руки, - продолжал Лёва, - а вас, вона сколько. Куда мене столько девать, скажи пожалуйста? Ума не приложу...
Белогвардейцы стояли прямо, держались спокойно и ровно, ждали, пока Лёва скажет до конца.
- Вот ты мене и помоги, вашество...
В холёном лице белого сквозь маску благородства проступило внимание.
- Скажи, кого повесить, а кого отпустить? И сколько?
Лёва снова хлебнул коньяка.
Офицер быстро оглянулся на товарищей и сделал шаг вперёд.
- Да тут каждого повесить мало за преступления перед народом, - вполголоса пробормотал он.
- Сволочь продажная, - послышалось среди пленных, - жизнь покупает...
- Кто сказал? - гаркнул Лёва.
- Я сказал, - запальчиво ответил молодой парнишка в юнкерской форме.
- И правильно! - воскликнул Задов и хлопнул в ладоши. - Продажная сволочь. Вот его мы и повесим, а остальные пусть идут куда хотят. Справедливость - прежде всего.
Дважды повторять не пришлось, шеренга быстро рассосалась, а к офицеру тут же подскочили два матроса, толкнули его на колени, скрутили руки за спиной, стянули верёвкой кисти.
- Как же так? - крикнул штабс-капитан. - Ты же сказал, выбери сам!
- Вот ты и выбрал свою долю, - улыбнулся Лёва. - Людей, ваше благородие, любить надо. Народ надо любить. А ты его не любишь... На берёзу!
Один из матросов неловко стащил саблю через голову, но очень ловко, по-морскому, залез на нижнюю, толстую ветку, стал прилаживать верёвку. Бледный офицер яростно закусил губу, видимо, вспомнил о забытом дворянском достоинстве. А к Лёве снова подскочил усатый в папахе и шепнул на выдохе:
- Лёв, глянь-ка, кого поймали!
- И чего там ещё? - недовольным голосом спросил Задов.
- Не поверишь - кассир наш беглый в дальнем углу вокзала прятался. Помнишь, говорили, как он за наши кровные жировал? Ребята заходят, а какой-то оборванец морду воротит и шляпой прикрывается.
Лёва обернулся. Двое бойцов волокли к нему человека в изодранных штанах и какой-то бабьей кофте.
- Бгатцы, не губите! - молил оборванец. - Бгатцы, у меня детки малые...
Увидав Лёву, человек заткнулся и обвис мешком. Задов несколько секунд пристально глядел в лицо бывшему кассиру, а потом сказал:
- Туда же! Пусть рядом болтаются.
- Не губите! - завопил оборванец и стал отчаянно рваться.
Матросу, который сидел на берёзе и занимался сооружением походной виселицы, кинули вторую верёвку. Насвистывая сквозь зубы "Царю Небесный", он ловко завязал на ней морской узел в восемь оборотов.
- Хватит вязать! Не для генерала, чай, галстух! - со смехом крикнули снизу.
Вторая петля упала рядом с первой.
- Бгатцы, не губите! - взвыл кассир, обрушился на колени и пополз к Лёве. - Всё отдам, до копейки! Семью по миру пущу, но всё отдам!
- Пшёл, сволочь... - бросил Лёва и сплюнул сквозь зубы, но кассир не отставал.
Он извивался в пыли и хрипел, как кабан-подранок, и, глядя на него, Лёва подумал, до чего же человек цепляется за жизнь, даже самую ничтожную. Кто-то притащил два ящика и поставил их под берёзой.
- Бгатцы, голубчики, не губите, - выл кассир и трясся, босые ноги уже выбивали в пыли чечетку.
- Какие мы тебе братцы? - зло спросил один из бойцов. - Где твоё братство было, когда ты общак просырал?
Бледный офицер молча смотрел на вьющегося в пыли кассира.
Оборванец хрипло повизгивал.
- Не хочу! Не надо! - металось эхо в развалинах вокзала.
Кассира с двух сторон схватили под мышки и потащили к ящику.
Белогвардейца толкнули в спину в том же направлении.
- Руки развяжи, перекреститься, - вдруг сказал офицер.
- Будя с тебя и так, - грубо возразил ему один из матросов, взял за воротник и потянул к берёзе.
- Быдло проклятое, - сквозь зубы сказал штабс-капитан, - вы все передохнете...
- Опосля тебя, ваше благородие, - хохотнул матрос, - ай, заждалась ужо встречи конопляная тётка!
По толпе анархистов весенним ветерком пронёсся смешок. Люди приготовились смотреть свой излюбленный, всегда одинаково захватывающий спектакль о том, как человек лишает жизни человека. Всё замерло. Даже кочегары выставили чумазые хари и с любопытством наблюдали за казнью. В общей тишине, воцарившейся на вокзале, звучал один кассир. Как поцарапанная граммофонная пластинка, он заладил одну-единственную фразу: "Бгатцы, не губите!" и повторял её раз за разом, на высокой ноте.
- Стойте! - вдруг крикнул Лёва. - Зверь я, шо ли, я вас спрашиваю? Я тоже людей люблю. Шо это за ящики? Они короткие. Человек с такого только мучиться будет. Табурет найдите в здании вокзала, или стулья. Живо!
Приумолкший от его голоса кассир снова контральтировал своё нескончаемое "бгатцы, не губите!"
Наконец, боец с толстым шрамом через всё лицо, притащил из бронепоезда два табурета.
- Сойдёт, - кивнул Задов.
Смертников пинками подогнали к табуретам и подсобили взобраться. Штабс-капитан не сопротивлялся, а кассир перестал дёргаться и замер на месте, как только верёвка коснулась его лица.
Приговоренные славно смотрелись рядом. Один - подтянутый, блестящий офицер, в мундире с золотом. Второй - оборванец и вор, в растянутой женской кофте, весь грязный, с торчащими пальцами на босых ногах.
Задов оглядел своих замерших бойцов, прокашлялся и громко сказал:
- За преступления перед Народом, за преступления против Народа, вы, господа, приговариваетесь к смертной казни через повешение. Привести приговор в исполнение!
Лёва махнул рукой. Один из матросов тут же ловко выбил табуреты из-под ног пленных и отскочил в сторону. Повешенные одинаково задёргались, забили ногами в воздухе, столкнулись друг с другом, и, наконец, обмякли. Кассир перестал виться первым. Его грязные босые ноги с растопыренными пальцами мирно закачались, в пыль потекло и закапало. Офицер изгибался дольше, но, в конце концов, тоже повис. На правой штанине его галифе расплывалось тёмное пятно.
Толпа вздохнула. Лёва удовлетворённо крякнул и сунул в рот папиросу. "А говоришь, батька, что я справедливость не люблю..." - подумал он, повернулся, и встретился с чистым и серьёзным взглядом синих глаз. Прямо у него за спиной стоял парнишка, юнкер, который назвал офицера сволочью. Лёва поёжился - мало ли...
- Шо тебе надо, пацан? - недовольно спросил Задов. - Я же ваших отпустил...
- Я с вами хочу, - смело сказал юнкер, продолжая смотреть серьёзно и честно.
Худая шейка с острым детским кадычком торчала из воротника формы. - За справедливость тоже хочу воевать... Знаете, сколько у нас в полку вот таких было?
Он кивнул на повешенного офицера.
- А у нас, знаешь, сколько в полку таких? - Лёва Задов показал глазами на кассира. - Правильно, ни одного... Всех перевешали за грабёж. Иди к мамке, пацан, а?
- Я с вами хочу, - упрямо повторил юнкер и заблестел синими глазами из-под красиво очерченных бровишек.
"Убьют ведь!" - с неясной тоской подумал Задов, скользнул взглядом по юному лицу с ямкой на подбородке, поморщился и сплюнул под ноги.
- А, чёрт с тобой, иди. Эй, кто-нибудь! Обувку пацану ворочайте... Наш теперь.
Бойцы утратили интерес к происходящему. На перроне завязалась обычная суета. Из вагона бронепоезда покачиваясь вышел оклемавшийся Калёма. Он глупо улыбался, щурил глаза и рассматривал товарищей. К паровозу степенно подошла небольшая строгая дворняжка с торчащими ушками и аккуратным колечком хвостика. Собачка была чем-то неуловимо похожа на тётю Фиру, которая в канун субботы идёт с базара и сосредоточенно думает, что бы приготовить на всю ораву детворы. Возможно, аккуратными острыми ушками, или грустным выражением умного рыжего лица.
- Слышь, пацан, как там тебя. Поди сюда, - сказал Лёва юнкеру. - Бери коня, скачи в Катеринослав, найдёшь батьку, отвезёшь письмо...
"Слушай, Нестор... На счёт Натальи Павловны в постели я с тобой категорически не согласен. Но не во всём. Есть у неё та же черта, что и у России... Она иногда не может отказать просто из обычной жалости. Если бы не ты, батька, я бы этого никогда не понял..."
По осколку снаряда, распахавшего белую, гладкую кору, стекал и капал сок. Повешенные равномерно качались.
Выпавшие языками лица умиротворённо улыбались под пьяный от крови оскал ещё не отмучившейся России.
© Мари Пяткина
Лёва Задов с детства не любил берёзового сока. Это лакомство, да ещё семечки, были единственными доступными для нищей и многодетной еврейской семьи. Бывало, по дороге из хедера Лёва с братьями до одури напивался прозрачной берёзовой крови, она на время заглушала ноющую, голодную боль в желудке.
Задов не любил вспоминать детство. Он любил кавалерийскую атаку и ещё три вещи, тоже на букву "к" - коньяк, кокаин, красоток. Потому и загнал свой бронепоезд под ударный огонь белогвардейской артиллерии. Ведь намедни был таков, что вполне мог загнать его евреям на Привозе и получить по шапке от батьки.
Снаружи поезд щетинился паркими, стальными стволами максимов.
Внутри, в раскалённом вагоне, стоял едкий запах пороха и обугленного дерева, смешанный с винным перегаром и сладкой вонью горелой человеческой плоти. Броня на задней стенке вагона была раскурочена снарядом, края дыры загибались внутрь элегантно, как лепестки чайной розы, сияли зазубринами.
Посреди вагона лежал труп человека со сломанной шеей, испитым, мрачным лицом, с широко раскинутыми ногами, в тельняшке, почерневшей от гари, грязи и крови. Человек равнодушно смотрел вперёд, он закончил все свои дела, теперь просто отдыхал. По всему вагону были разбросаны куски патронных ящиков вперемешку с лентами.
Движение происходило только в переднем конце вагона.
Толстый матрос Калёма трясся у бойницы. Вцепился руками в пулемёт, как в грудь портовой шлюхи, и содрогался от его мощного тела. Задорный стрёкот Калёма пытался перекрыть отборной матерной бранью. Бой закончился десять минут назад, но оторвать матроса от бойницы было невозможно, ждали, когда закончатся патроны.
- Хорош палить, Калёма! - гаркнул Задов, вбегая в вагон. - Ребята выйти на перрон боятся.
Контуженый боец не слышал, он дико вращал глазами, нашаривая очередную ленту. Лёва подошёл к матросу и тяжело опустил огромный, пудовый кулак ему на плечо.
- Шабаш, - примирительно бросил Лёва.
Калёма отпал от бойницы. Он опустился на корточки и замер, обхватив свою бритую голову чёрными от масла ладонями. Пулемёт чихнул, и, наконец, затих.
Бой начался внезапно. Счастье, что белогвардейцы не ждали у себя в тылу бронепоезд с толпой разгульных анархистов. Счастье, что все четыре орудия поезда зарядили ещё с вечера. Счастье, что батарея белых была сметена с первого же залпа.
Счастье, счастье, счастье - одно на всех. Да лихое бандитское везенье. Кому его не хватало - ложился в сырую постель. Полную матушку землю набили несчастливцами, обильно полили кровью и слезами сиротскими. А Лёвка Задов всегда выходил живым, любимчик удачи и правая рука батьки.
Рука правая, карающая по вольному степному праву.
- Ты, Лёвка, счастливый, удачливый и рисковый. Люблю таких, - говорил Махно, и Задову легко сходило с рук то, за что любой другой сплясал бы польку в воздухе.
Сколько раз Лёва прикрывал спину Нестора в сечи, когда кавалеристы лавиной летели друг на друга. Когда две силы, две стихии сходились в смертном бою.
Удар! Пошла резня.
Звон клинков пел в его сердце страстной музыкой, богатырский рост позволял пополам, до седла, развалить врага. А безрассудный Махно всегда бросался в гущу боя. Летел впереди, рубил наотмашь, и Лёва был готов поклясться: в этот момент за спиной у батьки вырастали орлиные крылья.
Шла молва, что когда новорожденного Нестора крестили, на священнике вспыхнула риза, а последней зимой батька поймал на вокзале попа, что пытался удрать с церковной утварью, облил его керосином и сжёг в бочке живьём.
Только от пуль и шашек Нестор заговоренным не был, и Лёва трижды выносил его, раненого, с поля боя. Прокладывал себе дорогу среди живых, по кровавой каше из человечьих и лошадиных тел.
- Меня-то, братец, ты любишь, знаю, - говаривал ему Махно, - а любишь ли ты народ? Людей любить надо и справедливость беречь.
- Да и я, батька, люблю, чтоб по совести, - возражал Задов.
- Нет, братец. Совесть - она у каждого своя, и, правда, как рваная тряпка, у каждого своя, а справедливость должна быть единой. Она ко многим слишком поздно приходит.
Задов глянул на скорченного у стены Калёму, переступил ящики, мертвеца в тельняшке и вышел на перрон.
Железную дорогу и часть вокзала раскурочило взрывами. Рельсы торчали во все стороны, как сломанные карандаши. Пороховое курево ещё не осело после боя. В густом воздухе висела пыль, под сапогами анархиста хрустела кирпичная крошка. Где-то громко кричала и билась раненая лошадь, потом раздался ружейный выстрел, и наступила тишина. К Задову подскочил боец в папахе. Из неё торчала красная, худая, чумазая и усатая рожа.
- Лёва, пленных полно, - сказала рожа, - чё делать будешь?
- Где? - вяло спросил Задов, достал из кармана генеральского галифе флягу и крепко приложился.
Спиртное обожгло горло, согрело нутро.
- Построили, глянь, - сказал боец.
Задов припомнил - батька приказал пленных не брать. Но посмотреть всё равно было надо. Чем ещё могли развлечься усталые глаза, отвернувшись от разорванной подковами империи? Лёва пошёл смотреть.
Пленных белогвардейцев было около двадцати: солдаты, юнкера, пара офицеров. Многие уже стояли в пыли босыми - анархисты успели стянуть английские ботинки. Блестели на весеннем солнышке погоны, напряжённо смотрели глаза. Задов медленно пошёл вдоль строя, вглядываясь в лица пленных и добродушно улыбаясь всем своим широким и простым лицом.
"Справедливость, говоришь, не люблю... - думал он. - Людей не люблю... Так за что же их любить, батька?"
Вдруг его внимание привлёк офицер с длинной чёлкой светлых волос, с миной честного, благородного, мужественного человека. Лёва остановился и навис над пленным, как большой вопросительный знак.
"А ну, ковырну..." - подумал он.
- Ну что, ваше благородие, чего делать будем, а? - спросил Задов и приложился к фляжке.
Штабс-капитан молчал. Погоны золотились.
- Пленные мене не с руки, - продолжал Лёва, - а вас, вона сколько. Куда мене столько девать, скажи пожалуйста? Ума не приложу...
Белогвардейцы стояли прямо, держались спокойно и ровно, ждали, пока Лёва скажет до конца.
- Вот ты мене и помоги, вашество...
В холёном лице белого сквозь маску благородства проступило внимание.
- Скажи, кого повесить, а кого отпустить? И сколько?
Лёва снова хлебнул коньяка.
Офицер быстро оглянулся на товарищей и сделал шаг вперёд.
- Да тут каждого повесить мало за преступления перед народом, - вполголоса пробормотал он.
- Сволочь продажная, - послышалось среди пленных, - жизнь покупает...
- Кто сказал? - гаркнул Лёва.
- Я сказал, - запальчиво ответил молодой парнишка в юнкерской форме.
- И правильно! - воскликнул Задов и хлопнул в ладоши. - Продажная сволочь. Вот его мы и повесим, а остальные пусть идут куда хотят. Справедливость - прежде всего.
Дважды повторять не пришлось, шеренга быстро рассосалась, а к офицеру тут же подскочили два матроса, толкнули его на колени, скрутили руки за спиной, стянули верёвкой кисти.
- Как же так? - крикнул штабс-капитан. - Ты же сказал, выбери сам!
- Вот ты и выбрал свою долю, - улыбнулся Лёва. - Людей, ваше благородие, любить надо. Народ надо любить. А ты его не любишь... На берёзу!
Один из матросов неловко стащил саблю через голову, но очень ловко, по-морскому, залез на нижнюю, толстую ветку, стал прилаживать верёвку. Бледный офицер яростно закусил губу, видимо, вспомнил о забытом дворянском достоинстве. А к Лёве снова подскочил усатый в папахе и шепнул на выдохе:
- Лёв, глянь-ка, кого поймали!
- И чего там ещё? - недовольным голосом спросил Задов.
- Не поверишь - кассир наш беглый в дальнем углу вокзала прятался. Помнишь, говорили, как он за наши кровные жировал? Ребята заходят, а какой-то оборванец морду воротит и шляпой прикрывается.
Лёва обернулся. Двое бойцов волокли к нему человека в изодранных штанах и какой-то бабьей кофте.
- Бгатцы, не губите! - молил оборванец. - Бгатцы, у меня детки малые...
Увидав Лёву, человек заткнулся и обвис мешком. Задов несколько секунд пристально глядел в лицо бывшему кассиру, а потом сказал:
- Туда же! Пусть рядом болтаются.
- Не губите! - завопил оборванец и стал отчаянно рваться.
Матросу, который сидел на берёзе и занимался сооружением походной виселицы, кинули вторую верёвку. Насвистывая сквозь зубы "Царю Небесный", он ловко завязал на ней морской узел в восемь оборотов.
- Хватит вязать! Не для генерала, чай, галстух! - со смехом крикнули снизу.
Вторая петля упала рядом с первой.
- Бгатцы, не губите! - взвыл кассир, обрушился на колени и пополз к Лёве. - Всё отдам, до копейки! Семью по миру пущу, но всё отдам!
- Пшёл, сволочь... - бросил Лёва и сплюнул сквозь зубы, но кассир не отставал.
Он извивался в пыли и хрипел, как кабан-подранок, и, глядя на него, Лёва подумал, до чего же человек цепляется за жизнь, даже самую ничтожную. Кто-то притащил два ящика и поставил их под берёзой.
- Бгатцы, голубчики, не губите, - выл кассир и трясся, босые ноги уже выбивали в пыли чечетку.
- Какие мы тебе братцы? - зло спросил один из бойцов. - Где твоё братство было, когда ты общак просырал?
Бледный офицер молча смотрел на вьющегося в пыли кассира.
Оборванец хрипло повизгивал.
- Не хочу! Не надо! - металось эхо в развалинах вокзала.
Кассира с двух сторон схватили под мышки и потащили к ящику.
Белогвардейца толкнули в спину в том же направлении.
- Руки развяжи, перекреститься, - вдруг сказал офицер.
- Будя с тебя и так, - грубо возразил ему один из матросов, взял за воротник и потянул к берёзе.
- Быдло проклятое, - сквозь зубы сказал штабс-капитан, - вы все передохнете...
- Опосля тебя, ваше благородие, - хохотнул матрос, - ай, заждалась ужо встречи конопляная тётка!
По толпе анархистов весенним ветерком пронёсся смешок. Люди приготовились смотреть свой излюбленный, всегда одинаково захватывающий спектакль о том, как человек лишает жизни человека. Всё замерло. Даже кочегары выставили чумазые хари и с любопытством наблюдали за казнью. В общей тишине, воцарившейся на вокзале, звучал один кассир. Как поцарапанная граммофонная пластинка, он заладил одну-единственную фразу: "Бгатцы, не губите!" и повторял её раз за разом, на высокой ноте.
- Стойте! - вдруг крикнул Лёва. - Зверь я, шо ли, я вас спрашиваю? Я тоже людей люблю. Шо это за ящики? Они короткие. Человек с такого только мучиться будет. Табурет найдите в здании вокзала, или стулья. Живо!
Приумолкший от его голоса кассир снова контральтировал своё нескончаемое "бгатцы, не губите!"
Наконец, боец с толстым шрамом через всё лицо, притащил из бронепоезда два табурета.
- Сойдёт, - кивнул Задов.
Смертников пинками подогнали к табуретам и подсобили взобраться. Штабс-капитан не сопротивлялся, а кассир перестал дёргаться и замер на месте, как только верёвка коснулась его лица.
Приговоренные славно смотрелись рядом. Один - подтянутый, блестящий офицер, в мундире с золотом. Второй - оборванец и вор, в растянутой женской кофте, весь грязный, с торчащими пальцами на босых ногах.
Задов оглядел своих замерших бойцов, прокашлялся и громко сказал:
- За преступления перед Народом, за преступления против Народа, вы, господа, приговариваетесь к смертной казни через повешение. Привести приговор в исполнение!
Лёва махнул рукой. Один из матросов тут же ловко выбил табуреты из-под ног пленных и отскочил в сторону. Повешенные одинаково задёргались, забили ногами в воздухе, столкнулись друг с другом, и, наконец, обмякли. Кассир перестал виться первым. Его грязные босые ноги с растопыренными пальцами мирно закачались, в пыль потекло и закапало. Офицер изгибался дольше, но, в конце концов, тоже повис. На правой штанине его галифе расплывалось тёмное пятно.
Толпа вздохнула. Лёва удовлетворённо крякнул и сунул в рот папиросу. "А говоришь, батька, что я справедливость не люблю..." - подумал он, повернулся, и встретился с чистым и серьёзным взглядом синих глаз. Прямо у него за спиной стоял парнишка, юнкер, который назвал офицера сволочью. Лёва поёжился - мало ли...
- Шо тебе надо, пацан? - недовольно спросил Задов. - Я же ваших отпустил...
- Я с вами хочу, - смело сказал юнкер, продолжая смотреть серьёзно и честно.
Худая шейка с острым детским кадычком торчала из воротника формы. - За справедливость тоже хочу воевать... Знаете, сколько у нас в полку вот таких было?
Он кивнул на повешенного офицера.
- А у нас, знаешь, сколько в полку таких? - Лёва Задов показал глазами на кассира. - Правильно, ни одного... Всех перевешали за грабёж. Иди к мамке, пацан, а?
- Я с вами хочу, - упрямо повторил юнкер и заблестел синими глазами из-под красиво очерченных бровишек.
"Убьют ведь!" - с неясной тоской подумал Задов, скользнул взглядом по юному лицу с ямкой на подбородке, поморщился и сплюнул под ноги.
- А, чёрт с тобой, иди. Эй, кто-нибудь! Обувку пацану ворочайте... Наш теперь.
Бойцы утратили интерес к происходящему. На перроне завязалась обычная суета. Из вагона бронепоезда покачиваясь вышел оклемавшийся Калёма. Он глупо улыбался, щурил глаза и рассматривал товарищей. К паровозу степенно подошла небольшая строгая дворняжка с торчащими ушками и аккуратным колечком хвостика. Собачка была чем-то неуловимо похожа на тётю Фиру, которая в канун субботы идёт с базара и сосредоточенно думает, что бы приготовить на всю ораву детворы. Возможно, аккуратными острыми ушками, или грустным выражением умного рыжего лица.
- Слышь, пацан, как там тебя. Поди сюда, - сказал Лёва юнкеру. - Бери коня, скачи в Катеринослав, найдёшь батьку, отвезёшь письмо...
"Слушай, Нестор... На счёт Натальи Павловны в постели я с тобой категорически не согласен. Но не во всём. Есть у неё та же черта, что и у России... Она иногда не может отказать просто из обычной жалости. Если бы не ты, батька, я бы этого никогда не понял..."
По осколку снаряда, распахавшего белую, гладкую кору, стекал и капал сок. Повешенные равномерно качались.
Выпавшие языками лица умиротворённо улыбались под пьяный от крови оскал ещё не отмучившейся России.
© Мари Пяткина
Loading...
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также