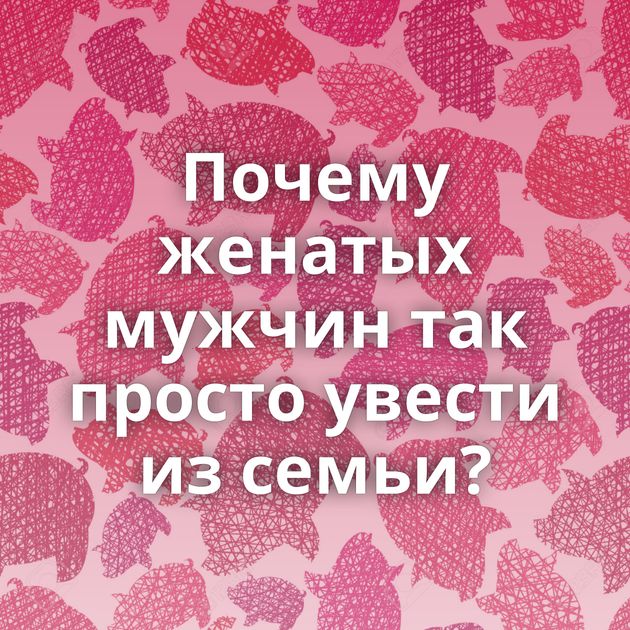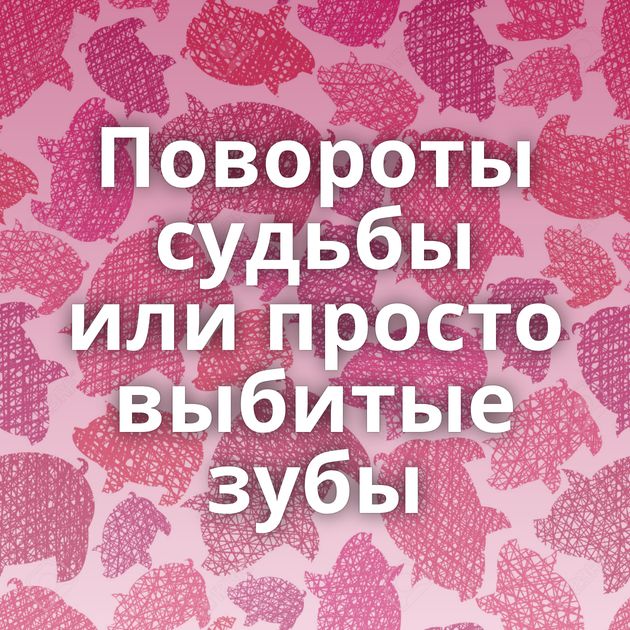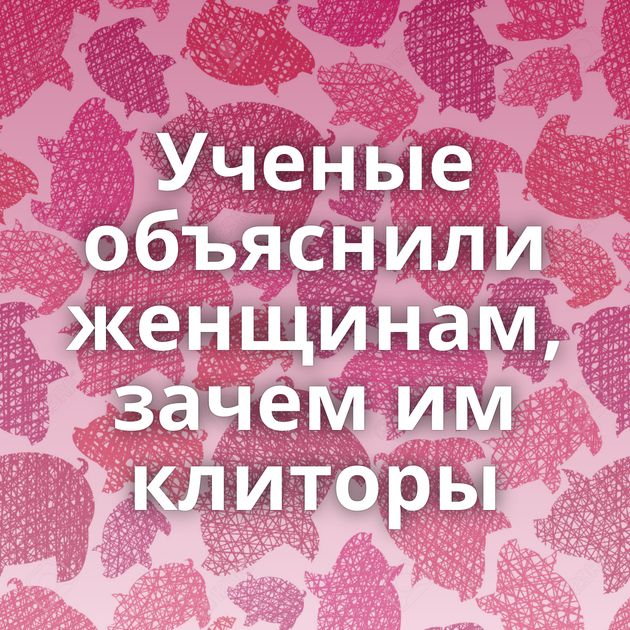9 февраля 2017 года в 11:32
Русские алкоголики на пути к нирване
Мы с мужем забыли следить за временем и проворонили некруглую дату: в первой половине декабря исполнилось шесть лет, как мы продали квартиру во Владивостоке и переехали жить в деревню. Теперь-то здесь очень много городских. Как будто мы проторили дорожку, и город потёк за нами следом, - подтягивая в деревню и сугубо городской образ жизни, и городские представления о комфорте, и даже - единичными, малыми, пробными объектами - городскую инфраструктуру.
Горожане - другие. Деревенские соседи, глядя на городских новичков, улыбаются. У деревенских соседей три коровы, тридцать свиней, огород без единого сорняка, с утра на работу, вечером хозяйство, но улыбаются и ходят в чистом. Городские каждый день ездят работать в город до вечера и тоже ходят в чистом. Они покупают в деревне пустые участки, вывозят оттуда КамАЗы мусора, мгновенно разбивают сады, за одно лето выстраивают симпатичные двухэтажные домики на высоких фундаментах и начинают, невзирая на скепсис соседей (три коровы, тридцать свиней), пристраивать к работе местных алкоголиков. Но алкоголики работать не хотят, а загаженных проплешин всё равно очень много. На месте некоторых пустырей мы еще застали деревянные одно- и двухэтажные бараки пятидесятых годов постройки.
Бараки горят каждую зиму, в них паршивая старая проводка, рассчитанная по нормативам более чем полувековой давности. Она не выдерживает отопительных ноу-хау местных алкашей - народа совершенно особого типа, о котором горожане почти ничего не знают, но думают, что алкаш деревенский ничем не отличается от алкаша городского. Это не так. Деревенский алкаш способен пропить будущий уголь и будущие дрова задолго до начала холодов, но его самодостаточность остаётся с ним почти до самого конца. Поэтому, когда внезапно настаёт зима, деревенский алкаш не ищет заработков, а начинает греться с помощью лома. Двенадцать киловатт, предназначенные всему бараку, устремляются по хилым проводам в розетку, в которую включен лом; лом раскаляется докрасна, в хате жарища и прелесть. Семь бараков за шесть лет, отдельных хибар сколько-то. Правда, один из семи бараков сгорел не из-за лома, а из-за Нового года. Праздник - он же ко всем приходит, только к одной женщине не пришёл, она обиделась, заперла уснувших приятелей, подожгла берлогу и ушла. Семь человек погибли, а обгоревшая двухэтажка еще постояла какое-то время, глядя на прохожих страшными черными окнами, - пока год назад её окончательно не снесли и не разровняли площадку. Как будто так и было.
Мы тоже были городские, а все городские - другие. Но мы больше не пытаемся приобщить к работе алкашей. К тому же за последние три года умерли самые симпатичные. Из тех, с которыми мы успели познакомиться в самом начале нашей деревенской жизни.
Умер Борис, ловивший креветок собственными трусами: он заходил в неглубокие воды здешнего залива, снимал трусы, натягивал их на рогатину и грёб ею по илистому дну. Добычу складывал в ведро, которое таскал привязанным к шее. Когда ведро наполнялось, Борис споласкивал ил с трусов, надевал их и шел по дворам торговать. День ловил креветок, три дня пил стеклоомыватель и говорил про себя, что работает сутки через трое. Умер от печени, а перед окончанием биографии успел сделаться ярко-желтым. Ходил и хвастался: "Цыплёнка к морде приложил, так морда-то желтее в стописят раз". В первые два года мы тоже покупали у Бориса креветок, а потом он перестал их ловить: начал достигать просветления.
Умер громадный мужик по имени Павлик. Павлик был похож на гору, на вершине которой неподвижно сидела человеческая голова с толстыми розовыми губами до ушей. А вот шеи у Павлика не имелось, так что ловить креветок он бы еще смог, но складывать их ему было бы совершенно некуда, разве что к уду привязывать ведро, но кто ж так делает. До просветления Павлик подрабатывал деструктором: его иногда звали поломать что-нибудь монолитное - железное или каменное. Еще Павлик переносил людям тяжести за малую денежку или, еще лучше, за бутылочку стеклоочистительной жидкости. Умер так: была драка, Павлика ударили по голове топором, он не заметил, еще чуть-чуть подрался, а потом пошёл домой, на полпути упал - и всё.
Умер наш приятель Саня, доставшийся нам вместе с домом. Истопник, перешедший по наследству от прежних домовладельцев, он и у нас поначалу кочегарил - приходил в семь утра, вынимал золу из древнего, первого поколения, твёрдотопливного бойлера, набивал его пустое нутро газетами, углём и дровами, зажигал всё это дело и отправлялся восвояси до обеда, затем приходил опять и ещё раз - вечером. Истопничал он, когда была хорошая погода, а в сильные морозы топить бойлер не приходил, потому что холодно. Потом мы поменяли древний котёл на новенький, нашпигованный электроникой, работавший от керосина и электричества, но Саня ещё долго считал себя нашим благодетелем, выполняя у нас разные работы, в том числе совершенно идиотские, не нужные нам, но нами оплачиваемые: без работы Саня болтался по деревне не пришей кобыле хвост, и нам его было жалко. Раньше он был шахтёром, но шахты закрыли, и пить стало можно не только по пятницам, а когда хочется. Сане, например, хотелось пить шесть раз в год по три недели подряд - неделя на разгон, неделя в плоском штопоре, неделя на чудесное воскрешение. "Три недели, - говорил Саня, - а больше мне и не надо".
Борис и Павлик были его друганами, которых он раза два или три приводил к нам на мелкие заработки. Саня работал у нас, покуда не спился окончательно. Он жил через две улицы. В периоды запоев присылал гонцов с записками. Одна, бесконечно поэтичная, долго у меня хранилась, а потом исчезла куда-то: "Лора я болен я прикован к постеле дай сто рублей". Эту записку мне принёс Павлик, Фудзияме подобный. С Павликом я передала Сане куриных окорочков, бидон борща, каких-то картошек и хлеб. До адресата дошли курьи ноги и картошка, Павлик не стал есть сырое, только два литра борща умял с хлебом по дороге. А Саня, как только "отковался от постеле", пришел ко мне выяснять, что находилось в бидоне, который Павлик не выбросил, а вымыл снегом начисто и передал больному приятелю со словами: "На тебе вота". "Борщ? - расстроился Саня, - ну спасибо тебе, Павлик".
Алкашом Саня был абсолютно беззлобным и к жизни нетребовательным. Немножко хотел жить в тёплых краях, но не очень верил в их существование. "Вон, в Африке тоже снег зимой, - говорил Саня, - я в одной книжке читал, что даже негры вымерзли". За год-полтора до смерти трёхнедельные его запои слились в один бесконечный. Однажды мы подобрали его в снегах и довезли до дома. Мы были почти уверены, что когда-нибудь зимой он погибнет, просто замёрзнет в овраге, но Саня умер в сентябре, в разгар нашего местного лета. Слёг, а через два дня душа его отлучилась - возможно, на разведку, искать тёплые края на ближайшую зиму, - да так и не вернулась в организм. Наверное, нашла Африку, в которой не бывает снега. Сане к тому моменту исполнилось 47, но выглядел он на тяжёлые семьдесят.
Но ещё жив последний Санин приятель. Это наш сосед через пустырь, Серёга, бывший рыбак. Когда мы переехали в деревню, Серёга только что вернулся из рейса и с тех пор больше нигде не работал. Сейчас он передвигается с палочкой, он немощен, он стар, ему около пятидесяти. Зимой он топит печку забором, весной сажает лук в грядку метр на метр, и, главное, постоянно ссорится с пидорасами. Окраина деревни, хорошая слышимость: "Пидорааааааасы!! - орёт Серёга, - идитенаааааааахуууууууй!" Сначала мы были уверены, что Серёга таким образом гоняет с огорода диких котов, которые пришли вытаптывать будущий лук. Но орёт Серёга не только весной и летом, а вообще всегда. Однажды мы увидели его, идущего вдоль совершенно пустынной улицы, - Серёга шел и эпизодически горланил всё тот же текст. Тогда-то мы и поняли, что пидорасы - они не снаружи, а внутри Серёги, такая часть внутреннего Серёгиного мира, с которой - единственной - он не в ладу: всё хорошо, только вот пидорасы одолевают, что ты будешь с ними делать.
Непостижимым образом жива и Валька, бывшая Санина соседка. Саня называл Вальку королевой кладбища - за то, что Валька как никто другой ориентировалась в беспорядочном кладбищенском лабиринте крестов и пирамидок. И за то ещё, что всегда знала, на которой из могил можно найти свежую закусь - конфету, печенюшку или даже вареное яйцо. Валька была в курсе всех поминальных дат. Она отслеживала похоронные события деревни, как океанические чайки на заповедных островах отслеживают гибель тюленьего приплода.
Валька старше Сани лет на пятнадцать. Саня умер два года назад, а у Вальки, которая за шесть лет высохла в мумию и стала абсолютно коричневой, - вдруг молодой бойфренд: осевший в деревне трудовой мигрант из Узбекистана, худенький малорослый ханурик, почти не говорящий по-русски. Валька зимой и летом выпендривается в норковой шапке, а ханурик зимой и летом носит за Валькой её шубу в руках: у Вальки есть шуба. Но ходит она, в основном, в стеганной безрукавке.
Со временем, конечно, до нас дошло, в чем заключается ценность жидкости для омывания автомобильных стёкол. Конечно, она дешевле, чем даже самый дешёвый лосьон, она удобно расфасована в пластиковую тару - не разобьётся, если случайно выронишь; но это не главные её достоинства. Дело в том, что стеклоомыватель просветляет особым образом. У его адептов прозрачные глаза и полная ясность в голове, они живут в согласии с универсумом, который всегда с ними и который дружелюбен к ним даже тогда, когда топором по башке. Единственное, утаскивает в могилу в сжатые сроки. В деревне это знают все, хотя всем известны и исключения (та же Валька, к примеру), - но исключений очень мало.
Года четыре назад мы с мужем, покупая какую-то снедь в местном магазине, вспомнили, что в бачке омывателя пусто. Боже, какую гамму чувств вызвали мы у продавщицы. От изумления и скорби до желания образумить бедняг, по глупости ступивших на скользкую дорожку. "А вам-то, вам-то зачем?! - воскликнула она, - да возьмите вы водки, а это не берите, вам это нельзя". Мы были тронуты, но немного оскорблены: остальным жидкость продавали без разговоров.
Недавно Валька и ханурик пришли к нам на околицу воровать железную крышку с колонки, и мы с соседями их прогнали. Ушли они безропотно: нельзя так нельзя; но через сто метров спёрли тележку у ещё одного соседа, тот вывозил снег со двора в овраг, отвлёкся в уборную, оставил тележку возле калитки, вышел - глядь, имущество делает ноги. Тележку сосед отнял, Вальку с узбеком бить не стал, здесь это как-то непопулярно, но они бы, скорей всего, даже не заметили, что их бьют. Это высшая, недосягаемая степень просветлённости. За шесть лет, прожитых в деревне, я научилась её видеть и уважать.
Мне-то не достичь подобного единения с космосом никогда. Да и вам тоже, чего уж. Нам всем до неё пилить и пилить, всё равно что пешком по Транссибу, от Владивостока до станции Москва и обратно, да в пургу, да в драных валенках на босу ногу, да ещё и кофе с утра не пивши. Но и я, и вы (и все мы вообще) сделаем all our best, чтобы и кофе с утра, и чтобы валенки не на босу ногу, и чтобы не пешком; и вообще, на кой хрен нам эта прогулка, когда призовые баллы и можно слетать в Аргентину, мы там не были. Какое уж тут просветление. А им - и Вальке, и Серёге, и не заметившему собственной смерти Павлику, и утонувшему в тазу Олегу, и ещё куче народу - абсолютно наплевать и на Аргентину, и на Транссиб, и на прочее бессмысленное говно. Им вообще наплевать на жизнь, потому что жизнь для них - оно как бы не главное. Заминка в пути, затянувшийся момент ожидания, немножко досадное попадалово. Период между внетелесностью и внетелесностью.
Вижу в окно: хромает по безлюдной нашей улице Серёга, пьяный, в сланцах на босу - да! - ногу, в футболке с короткими рукавами, штаны драные, в дыру видно сиреневое колено. Хрусь-хрусь по снежку. Я знаю, куда он идёт: к почтовым ящикам, недлинная батарея которых прибита к маньчжурскому ореху напротив моего дома. Серёга ходит к ореху почти каждый день на протяжении шести лет как минимум. Такой у него странный рудимент, никак не отсохнет. Неровно, но быстро ковыляет Серёга, почти бежит, подгоняемый внутренними пидорасами, и сколько там ему осталось бежать до окончательной разлуки с туловом - никто не знает. Респект тебе, сиреневое колено, ты часть бодхисатвы, сделавшего свой выбор, умеющего босиком по снегу, вольного, свободного от мира, войны и другого мира, равнодушного к причинно-следственным связям, к президентам всех стран оптом и в розницу, к примату бытия над сознанием, к уровню жизни и внешнему валовому продукту, но - пока ещё - зависимого от ежедневных визитов к дереву с железными коробками на стволе. Хрусь-хрусь, не глядя по сторонам, не глядя в небо, не глядя вообще никуда, идёт он, упирается в орех и отпирает коробку. А потом запирает, разворачивается и идёт обратно, и несёт в себе громадное, переполненное сверхсодержанием, бесконечно важное на сегодняшний день и громкое на всю улицу знание об утробе почтового ящика: "ни-ху-я".
Горожане - другие. Деревенские соседи, глядя на городских новичков, улыбаются. У деревенских соседей три коровы, тридцать свиней, огород без единого сорняка, с утра на работу, вечером хозяйство, но улыбаются и ходят в чистом. Городские каждый день ездят работать в город до вечера и тоже ходят в чистом. Они покупают в деревне пустые участки, вывозят оттуда КамАЗы мусора, мгновенно разбивают сады, за одно лето выстраивают симпатичные двухэтажные домики на высоких фундаментах и начинают, невзирая на скепсис соседей (три коровы, тридцать свиней), пристраивать к работе местных алкоголиков. Но алкоголики работать не хотят, а загаженных проплешин всё равно очень много. На месте некоторых пустырей мы еще застали деревянные одно- и двухэтажные бараки пятидесятых годов постройки.
Бараки горят каждую зиму, в них паршивая старая проводка, рассчитанная по нормативам более чем полувековой давности. Она не выдерживает отопительных ноу-хау местных алкашей - народа совершенно особого типа, о котором горожане почти ничего не знают, но думают, что алкаш деревенский ничем не отличается от алкаша городского. Это не так. Деревенский алкаш способен пропить будущий уголь и будущие дрова задолго до начала холодов, но его самодостаточность остаётся с ним почти до самого конца. Поэтому, когда внезапно настаёт зима, деревенский алкаш не ищет заработков, а начинает греться с помощью лома. Двенадцать киловатт, предназначенные всему бараку, устремляются по хилым проводам в розетку, в которую включен лом; лом раскаляется докрасна, в хате жарища и прелесть. Семь бараков за шесть лет, отдельных хибар сколько-то. Правда, один из семи бараков сгорел не из-за лома, а из-за Нового года. Праздник - он же ко всем приходит, только к одной женщине не пришёл, она обиделась, заперла уснувших приятелей, подожгла берлогу и ушла. Семь человек погибли, а обгоревшая двухэтажка еще постояла какое-то время, глядя на прохожих страшными черными окнами, - пока год назад её окончательно не снесли и не разровняли площадку. Как будто так и было.
Мы тоже были городские, а все городские - другие. Но мы больше не пытаемся приобщить к работе алкашей. К тому же за последние три года умерли самые симпатичные. Из тех, с которыми мы успели познакомиться в самом начале нашей деревенской жизни.
Умер Борис, ловивший креветок собственными трусами: он заходил в неглубокие воды здешнего залива, снимал трусы, натягивал их на рогатину и грёб ею по илистому дну. Добычу складывал в ведро, которое таскал привязанным к шее. Когда ведро наполнялось, Борис споласкивал ил с трусов, надевал их и шел по дворам торговать. День ловил креветок, три дня пил стеклоомыватель и говорил про себя, что работает сутки через трое. Умер от печени, а перед окончанием биографии успел сделаться ярко-желтым. Ходил и хвастался: "Цыплёнка к морде приложил, так морда-то желтее в стописят раз". В первые два года мы тоже покупали у Бориса креветок, а потом он перестал их ловить: начал достигать просветления.
Умер громадный мужик по имени Павлик. Павлик был похож на гору, на вершине которой неподвижно сидела человеческая голова с толстыми розовыми губами до ушей. А вот шеи у Павлика не имелось, так что ловить креветок он бы еще смог, но складывать их ему было бы совершенно некуда, разве что к уду привязывать ведро, но кто ж так делает. До просветления Павлик подрабатывал деструктором: его иногда звали поломать что-нибудь монолитное - железное или каменное. Еще Павлик переносил людям тяжести за малую денежку или, еще лучше, за бутылочку стеклоочистительной жидкости. Умер так: была драка, Павлика ударили по голове топором, он не заметил, еще чуть-чуть подрался, а потом пошёл домой, на полпути упал - и всё.
Умер наш приятель Саня, доставшийся нам вместе с домом. Истопник, перешедший по наследству от прежних домовладельцев, он и у нас поначалу кочегарил - приходил в семь утра, вынимал золу из древнего, первого поколения, твёрдотопливного бойлера, набивал его пустое нутро газетами, углём и дровами, зажигал всё это дело и отправлялся восвояси до обеда, затем приходил опять и ещё раз - вечером. Истопничал он, когда была хорошая погода, а в сильные морозы топить бойлер не приходил, потому что холодно. Потом мы поменяли древний котёл на новенький, нашпигованный электроникой, работавший от керосина и электричества, но Саня ещё долго считал себя нашим благодетелем, выполняя у нас разные работы, в том числе совершенно идиотские, не нужные нам, но нами оплачиваемые: без работы Саня болтался по деревне не пришей кобыле хвост, и нам его было жалко. Раньше он был шахтёром, но шахты закрыли, и пить стало можно не только по пятницам, а когда хочется. Сане, например, хотелось пить шесть раз в год по три недели подряд - неделя на разгон, неделя в плоском штопоре, неделя на чудесное воскрешение. "Три недели, - говорил Саня, - а больше мне и не надо".
Борис и Павлик были его друганами, которых он раза два или три приводил к нам на мелкие заработки. Саня работал у нас, покуда не спился окончательно. Он жил через две улицы. В периоды запоев присылал гонцов с записками. Одна, бесконечно поэтичная, долго у меня хранилась, а потом исчезла куда-то: "Лора я болен я прикован к постеле дай сто рублей". Эту записку мне принёс Павлик, Фудзияме подобный. С Павликом я передала Сане куриных окорочков, бидон борща, каких-то картошек и хлеб. До адресата дошли курьи ноги и картошка, Павлик не стал есть сырое, только два литра борща умял с хлебом по дороге. А Саня, как только "отковался от постеле", пришел ко мне выяснять, что находилось в бидоне, который Павлик не выбросил, а вымыл снегом начисто и передал больному приятелю со словами: "На тебе вота". "Борщ? - расстроился Саня, - ну спасибо тебе, Павлик".
Алкашом Саня был абсолютно беззлобным и к жизни нетребовательным. Немножко хотел жить в тёплых краях, но не очень верил в их существование. "Вон, в Африке тоже снег зимой, - говорил Саня, - я в одной книжке читал, что даже негры вымерзли". За год-полтора до смерти трёхнедельные его запои слились в один бесконечный. Однажды мы подобрали его в снегах и довезли до дома. Мы были почти уверены, что когда-нибудь зимой он погибнет, просто замёрзнет в овраге, но Саня умер в сентябре, в разгар нашего местного лета. Слёг, а через два дня душа его отлучилась - возможно, на разведку, искать тёплые края на ближайшую зиму, - да так и не вернулась в организм. Наверное, нашла Африку, в которой не бывает снега. Сане к тому моменту исполнилось 47, но выглядел он на тяжёлые семьдесят.
Но ещё жив последний Санин приятель. Это наш сосед через пустырь, Серёга, бывший рыбак. Когда мы переехали в деревню, Серёга только что вернулся из рейса и с тех пор больше нигде не работал. Сейчас он передвигается с палочкой, он немощен, он стар, ему около пятидесяти. Зимой он топит печку забором, весной сажает лук в грядку метр на метр, и, главное, постоянно ссорится с пидорасами. Окраина деревни, хорошая слышимость: "Пидорааааааасы!! - орёт Серёга, - идитенаааааааахуууууууй!" Сначала мы были уверены, что Серёга таким образом гоняет с огорода диких котов, которые пришли вытаптывать будущий лук. Но орёт Серёга не только весной и летом, а вообще всегда. Однажды мы увидели его, идущего вдоль совершенно пустынной улицы, - Серёга шел и эпизодически горланил всё тот же текст. Тогда-то мы и поняли, что пидорасы - они не снаружи, а внутри Серёги, такая часть внутреннего Серёгиного мира, с которой - единственной - он не в ладу: всё хорошо, только вот пидорасы одолевают, что ты будешь с ними делать.
Непостижимым образом жива и Валька, бывшая Санина соседка. Саня называл Вальку королевой кладбища - за то, что Валька как никто другой ориентировалась в беспорядочном кладбищенском лабиринте крестов и пирамидок. И за то ещё, что всегда знала, на которой из могил можно найти свежую закусь - конфету, печенюшку или даже вареное яйцо. Валька была в курсе всех поминальных дат. Она отслеживала похоронные события деревни, как океанические чайки на заповедных островах отслеживают гибель тюленьего приплода.
Валька старше Сани лет на пятнадцать. Саня умер два года назад, а у Вальки, которая за шесть лет высохла в мумию и стала абсолютно коричневой, - вдруг молодой бойфренд: осевший в деревне трудовой мигрант из Узбекистана, худенький малорослый ханурик, почти не говорящий по-русски. Валька зимой и летом выпендривается в норковой шапке, а ханурик зимой и летом носит за Валькой её шубу в руках: у Вальки есть шуба. Но ходит она, в основном, в стеганной безрукавке.
Со временем, конечно, до нас дошло, в чем заключается ценность жидкости для омывания автомобильных стёкол. Конечно, она дешевле, чем даже самый дешёвый лосьон, она удобно расфасована в пластиковую тару - не разобьётся, если случайно выронишь; но это не главные её достоинства. Дело в том, что стеклоомыватель просветляет особым образом. У его адептов прозрачные глаза и полная ясность в голове, они живут в согласии с универсумом, который всегда с ними и который дружелюбен к ним даже тогда, когда топором по башке. Единственное, утаскивает в могилу в сжатые сроки. В деревне это знают все, хотя всем известны и исключения (та же Валька, к примеру), - но исключений очень мало.
Года четыре назад мы с мужем, покупая какую-то снедь в местном магазине, вспомнили, что в бачке омывателя пусто. Боже, какую гамму чувств вызвали мы у продавщицы. От изумления и скорби до желания образумить бедняг, по глупости ступивших на скользкую дорожку. "А вам-то, вам-то зачем?! - воскликнула она, - да возьмите вы водки, а это не берите, вам это нельзя". Мы были тронуты, но немного оскорблены: остальным жидкость продавали без разговоров.
Недавно Валька и ханурик пришли к нам на околицу воровать железную крышку с колонки, и мы с соседями их прогнали. Ушли они безропотно: нельзя так нельзя; но через сто метров спёрли тележку у ещё одного соседа, тот вывозил снег со двора в овраг, отвлёкся в уборную, оставил тележку возле калитки, вышел - глядь, имущество делает ноги. Тележку сосед отнял, Вальку с узбеком бить не стал, здесь это как-то непопулярно, но они бы, скорей всего, даже не заметили, что их бьют. Это высшая, недосягаемая степень просветлённости. За шесть лет, прожитых в деревне, я научилась её видеть и уважать.
Мне-то не достичь подобного единения с космосом никогда. Да и вам тоже, чего уж. Нам всем до неё пилить и пилить, всё равно что пешком по Транссибу, от Владивостока до станции Москва и обратно, да в пургу, да в драных валенках на босу ногу, да ещё и кофе с утра не пивши. Но и я, и вы (и все мы вообще) сделаем all our best, чтобы и кофе с утра, и чтобы валенки не на босу ногу, и чтобы не пешком; и вообще, на кой хрен нам эта прогулка, когда призовые баллы и можно слетать в Аргентину, мы там не были. Какое уж тут просветление. А им - и Вальке, и Серёге, и не заметившему собственной смерти Павлику, и утонувшему в тазу Олегу, и ещё куче народу - абсолютно наплевать и на Аргентину, и на Транссиб, и на прочее бессмысленное говно. Им вообще наплевать на жизнь, потому что жизнь для них - оно как бы не главное. Заминка в пути, затянувшийся момент ожидания, немножко досадное попадалово. Период между внетелесностью и внетелесностью.
Вижу в окно: хромает по безлюдной нашей улице Серёга, пьяный, в сланцах на босу - да! - ногу, в футболке с короткими рукавами, штаны драные, в дыру видно сиреневое колено. Хрусь-хрусь по снежку. Я знаю, куда он идёт: к почтовым ящикам, недлинная батарея которых прибита к маньчжурскому ореху напротив моего дома. Серёга ходит к ореху почти каждый день на протяжении шести лет как минимум. Такой у него странный рудимент, никак не отсохнет. Неровно, но быстро ковыляет Серёга, почти бежит, подгоняемый внутренними пидорасами, и сколько там ему осталось бежать до окончательной разлуки с туловом - никто не знает. Респект тебе, сиреневое колено, ты часть бодхисатвы, сделавшего свой выбор, умеющего босиком по снегу, вольного, свободного от мира, войны и другого мира, равнодушного к причинно-следственным связям, к президентам всех стран оптом и в розницу, к примату бытия над сознанием, к уровню жизни и внешнему валовому продукту, но - пока ещё - зависимого от ежедневных визитов к дереву с железными коробками на стволе. Хрусь-хрусь, не глядя по сторонам, не глядя в небо, не глядя вообще никуда, идёт он, упирается в орех и отпирает коробку. А потом запирает, разворачивается и идёт обратно, и несёт в себе громадное, переполненное сверхсодержанием, бесконечно важное на сегодняшний день и громкое на всю улицу знание об утробе почтового ящика: "ни-ху-я".
Loading...
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также