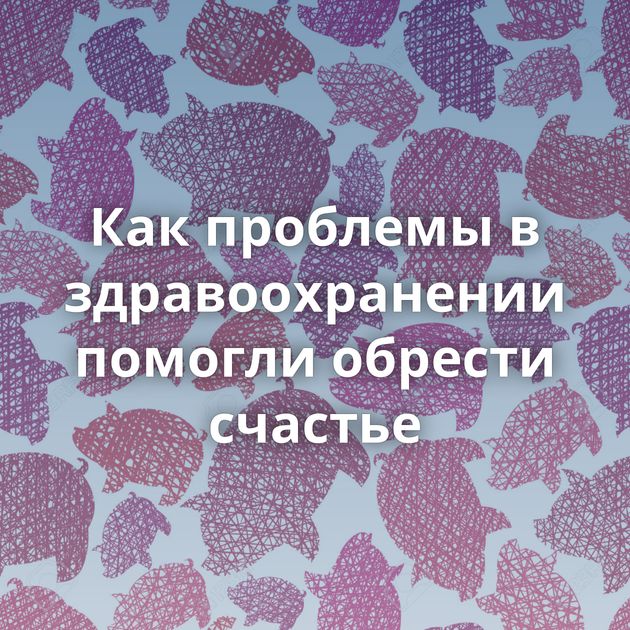23 мая 2019 года в 19:59
Куда исчез Датычё
Завсегдатая Петровича знала вся больница. Несколько раз в год он ложился, по высшей милости главврача, отъесться больничными супами - кашами, отлежаться на простынях, но главное - выговориться.
"Да ты чЁ", - слышалось из палат, холла, столовой.
"Девки тогда были, да ты чЁ".
"А порции в столовой, да ты чЁ, за раз не выхлебать".
"Картошечка, картошечка родилась, да ты чЁ, шесть штук - ведро!"
Над картинами былого рая посмеивались, звали Петровича Датычё, но жалели, подкармливали домашними гостинцами, просили близких принести что-нибудь из одежды.
Датычё отрабатывал сытое проживание, дежурил вместе с санитарками, помогал на кухне, ухаживал за лежачими. Гостинцы, получаемые за мелкие услуги, раздавал одиноким больным.
О жизни Петровича знали мало, да он и не рассказывал. Поговаривали, что была у него когда-то семья: жена и сын. Но еще в эпоху "большой картошки" растворились, исчезли из его жизни. Лет пятнадцать назад сгорел дом, оставив старика на улице. Где он пропадал в перерывах между "больничными курортами", не знал никто. Впрочем, и не интересовались.
До ночи своего исчезновения он пробыл в больнице около двух недель. Чисто выбритое лицо налилось сытостью. Его постригли сердобольные медсестрички. Они же снабдили средствами гигиены, и Петрович ходил в душ при любом удобном случае.
- Эх, прописаться бы здесь, - говорил он накануне вечером, расстилая чистое белье на своей кровати.
А утром кровать была пуста...
Поискали по больничным задворкам, привычно отложили обед, а на следующий день поменяли простыни и уложили на кровать нового пациента - капризного молодого человека, беспрерывно жалующегося на тяжесть и покалывания.
О Петровиче вспоминали редко, лишь в шутках, которые почему-то быстро стирались с лица легкой грустью:
- Что с него взять - бродяга.
Утро следующего дня началось со скандала - новенький кричал, что не останется на этой кровати, что требует переселить его в другую палату.
- Всю ночь будто ворочался кто рядом. Ну правда, я с ума-то еще не сошел.
В этом утверждении засомневались, но капризного больного перевели, и кровать осталось пустой. А еще через две недели на ней оказался Датычё - грязный, оборванный, все в той же больничной пижаме. Прятал заросшее лицо в подушку и молчал, лишь заросший седой затылок вздрагивал. Его пытались разговорить - тщетно. К вечеру подошел главврач, развернул измученного старика, измерил пульс, дал указания медсестрам, которые тут же примчались со шприцами.
Датычё скончался на рассвете. Выдохнул, в тишине неспящей палаты, и смежил усталые веки. А набившиеся в палату больные, медсестры, санитарки, слушавшие рассказ бродяги, еще долго не могли вздохнуть.
Рассказ этот стал чем-то вроде больничной легенды, многократно пересказывался, обрастал фантазийными подробностями. Лишь немногие помнили страшную исповедь Петровича.
***
Лет мне тогда было около тридцати - молодой, шустрый. Жена красивая, сынишке год. Работал на самосвале, возил песок, щебень по стройкам. И день тот помню, будто вчера. Жарко было очень, решил проехать леском, все прохладнее. Дорога, правда, ямы да ухабы, но нам-то не привыкать. Мальчишка этот, выскочил бесенок, кусты там еще у самой дороги. До сих пор вижу эту картину, впечаталась так глубоко - не вытравить... Рубашонка зеленая в клеточку, и ведь только сбоку пятнышко небольшое... Сандалик отлетевший, ножки в ссадинах... Чуть поодаль удочка самодельная, ведерко перевернутое и карасики, живые еще... И шумит что-то за леском, этот шум и испугал. Ведь мне тридцать, жена красавица, сынишке год и зазнобушка на стороне ждет, надеется...
Не узнал никто, машину помыл и не видно. И что видно будет на самосвале? Мальчонка-то совсем маленький. Только не могу за баранку садиться, хоть что с собой делай. Только на место шоферское - рубашонка эта, ножки в царапинках, да карасики хвостами по пыльному асфальту бьют. А как объяснишь? Вот и начал я пить, чтобы с работы уволили. Пока пил, жена ушла, сынишку забрала, любовница другого нашла. Очнулся словно в другом теле - все заново. А из прошлой жизни - пятно на зеленой рубашке и ручеек от него.
На хорошую работу не брали, но в то время еще можно было на кусок заработать. Дружки появились такие же, а с ними и подружки. Что долго рассказывать, не мне бы за такую жизнь держаться, мог бы - с мальчонкой местами поменялся.
Пропили и смену строя, и девяностые, не заметили. Лишь менялись лица в моем полуразрушенном доме. Но тут беда - сгорел дом. Пришлось осваивать кочевую жизнь. Только здесь, в больнице, и отдыхал, чувствовал себя человеком, помогал, как мог. И отступала картинка того дня, чудо забытья.
В тот день вечером вымылся, постель переменил - хорошо. Уснул сразу, а проснулся от того, что кто-то за рукав тянет. Я его сразу узнал, мальчишку моего. Не пошел за ним - побежал. А в голове картинки забытые из прошлого: вот за женой в роддом еду на своем самосвале, букет ромашек в газету завернутый. Свадьба наша - шумная, веселая. Очнулся на том самом месте, где лежал малец много лет назад. Как? Отсюда километров двести, не меньше! А мальчишка в лесок тянет, пошел за ним. Дальше опять провал. Пришел в себя у старенького дома в заросшей бурьяном деревушке. Дверь перекосило - еле вошел. Пахнуло старостью и бедой. В единственной комнате под кучей тряпок зашевелился кто-то. Пригляделся - старуха древняя, скелет в лохмотьях темной кожи. Увидела меня, рукой замахала, подзывает.
- Дождалась, - хрипит, - схорони рядом с сыночком.
И дух из нее вон. Пошел по деревне, хотел соседей позвать, только нет соседей, бабка последней жительницей была. Набрел на кладбище и сразу же могилку мальчишки нашел, привел он. Сколотил нехитрый гроб, вырыл могилу, похоронил старуху как просила. А дальше не помню ничего, очнулся только у больничных ворот.
Простил меня Сашка, его, оказывается, Сашкой звали...
***
Это были последние слова, сказанные Петровичем. Смерть его была тихой - никакой беготни, никаких попыток реанимировать. Сидели молча, вслушиваясь, как тает эхо от имени мальчишки, нелепо погибшего много лет назад.
© Елена Гвозденко
"Да ты чЁ", - слышалось из палат, холла, столовой.
"Девки тогда были, да ты чЁ".
"А порции в столовой, да ты чЁ, за раз не выхлебать".
"Картошечка, картошечка родилась, да ты чЁ, шесть штук - ведро!"
Над картинами былого рая посмеивались, звали Петровича Датычё, но жалели, подкармливали домашними гостинцами, просили близких принести что-нибудь из одежды.
Датычё отрабатывал сытое проживание, дежурил вместе с санитарками, помогал на кухне, ухаживал за лежачими. Гостинцы, получаемые за мелкие услуги, раздавал одиноким больным.
О жизни Петровича знали мало, да он и не рассказывал. Поговаривали, что была у него когда-то семья: жена и сын. Но еще в эпоху "большой картошки" растворились, исчезли из его жизни. Лет пятнадцать назад сгорел дом, оставив старика на улице. Где он пропадал в перерывах между "больничными курортами", не знал никто. Впрочем, и не интересовались.
До ночи своего исчезновения он пробыл в больнице около двух недель. Чисто выбритое лицо налилось сытостью. Его постригли сердобольные медсестрички. Они же снабдили средствами гигиены, и Петрович ходил в душ при любом удобном случае.
- Эх, прописаться бы здесь, - говорил он накануне вечером, расстилая чистое белье на своей кровати.
А утром кровать была пуста...
Поискали по больничным задворкам, привычно отложили обед, а на следующий день поменяли простыни и уложили на кровать нового пациента - капризного молодого человека, беспрерывно жалующегося на тяжесть и покалывания.
О Петровиче вспоминали редко, лишь в шутках, которые почему-то быстро стирались с лица легкой грустью:
- Что с него взять - бродяга.
Утро следующего дня началось со скандала - новенький кричал, что не останется на этой кровати, что требует переселить его в другую палату.
- Всю ночь будто ворочался кто рядом. Ну правда, я с ума-то еще не сошел.
В этом утверждении засомневались, но капризного больного перевели, и кровать осталось пустой. А еще через две недели на ней оказался Датычё - грязный, оборванный, все в той же больничной пижаме. Прятал заросшее лицо в подушку и молчал, лишь заросший седой затылок вздрагивал. Его пытались разговорить - тщетно. К вечеру подошел главврач, развернул измученного старика, измерил пульс, дал указания медсестрам, которые тут же примчались со шприцами.
Датычё скончался на рассвете. Выдохнул, в тишине неспящей палаты, и смежил усталые веки. А набившиеся в палату больные, медсестры, санитарки, слушавшие рассказ бродяги, еще долго не могли вздохнуть.
Рассказ этот стал чем-то вроде больничной легенды, многократно пересказывался, обрастал фантазийными подробностями. Лишь немногие помнили страшную исповедь Петровича.
***
Лет мне тогда было около тридцати - молодой, шустрый. Жена красивая, сынишке год. Работал на самосвале, возил песок, щебень по стройкам. И день тот помню, будто вчера. Жарко было очень, решил проехать леском, все прохладнее. Дорога, правда, ямы да ухабы, но нам-то не привыкать. Мальчишка этот, выскочил бесенок, кусты там еще у самой дороги. До сих пор вижу эту картину, впечаталась так глубоко - не вытравить... Рубашонка зеленая в клеточку, и ведь только сбоку пятнышко небольшое... Сандалик отлетевший, ножки в ссадинах... Чуть поодаль удочка самодельная, ведерко перевернутое и карасики, живые еще... И шумит что-то за леском, этот шум и испугал. Ведь мне тридцать, жена красавица, сынишке год и зазнобушка на стороне ждет, надеется...
Не узнал никто, машину помыл и не видно. И что видно будет на самосвале? Мальчонка-то совсем маленький. Только не могу за баранку садиться, хоть что с собой делай. Только на место шоферское - рубашонка эта, ножки в царапинках, да карасики хвостами по пыльному асфальту бьют. А как объяснишь? Вот и начал я пить, чтобы с работы уволили. Пока пил, жена ушла, сынишку забрала, любовница другого нашла. Очнулся словно в другом теле - все заново. А из прошлой жизни - пятно на зеленой рубашке и ручеек от него.
На хорошую работу не брали, но в то время еще можно было на кусок заработать. Дружки появились такие же, а с ними и подружки. Что долго рассказывать, не мне бы за такую жизнь держаться, мог бы - с мальчонкой местами поменялся.
Пропили и смену строя, и девяностые, не заметили. Лишь менялись лица в моем полуразрушенном доме. Но тут беда - сгорел дом. Пришлось осваивать кочевую жизнь. Только здесь, в больнице, и отдыхал, чувствовал себя человеком, помогал, как мог. И отступала картинка того дня, чудо забытья.
В тот день вечером вымылся, постель переменил - хорошо. Уснул сразу, а проснулся от того, что кто-то за рукав тянет. Я его сразу узнал, мальчишку моего. Не пошел за ним - побежал. А в голове картинки забытые из прошлого: вот за женой в роддом еду на своем самосвале, букет ромашек в газету завернутый. Свадьба наша - шумная, веселая. Очнулся на том самом месте, где лежал малец много лет назад. Как? Отсюда километров двести, не меньше! А мальчишка в лесок тянет, пошел за ним. Дальше опять провал. Пришел в себя у старенького дома в заросшей бурьяном деревушке. Дверь перекосило - еле вошел. Пахнуло старостью и бедой. В единственной комнате под кучей тряпок зашевелился кто-то. Пригляделся - старуха древняя, скелет в лохмотьях темной кожи. Увидела меня, рукой замахала, подзывает.
- Дождалась, - хрипит, - схорони рядом с сыночком.
И дух из нее вон. Пошел по деревне, хотел соседей позвать, только нет соседей, бабка последней жительницей была. Набрел на кладбище и сразу же могилку мальчишки нашел, привел он. Сколотил нехитрый гроб, вырыл могилу, похоронил старуху как просила. А дальше не помню ничего, очнулся только у больничных ворот.
Простил меня Сашка, его, оказывается, Сашкой звали...
***
Это были последние слова, сказанные Петровичем. Смерть его была тихой - никакой беготни, никаких попыток реанимировать. Сидели молча, вслушиваясь, как тает эхо от имени мальчишки, нелепо погибшего много лет назад.
© Елена Гвозденко
Loading...
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также