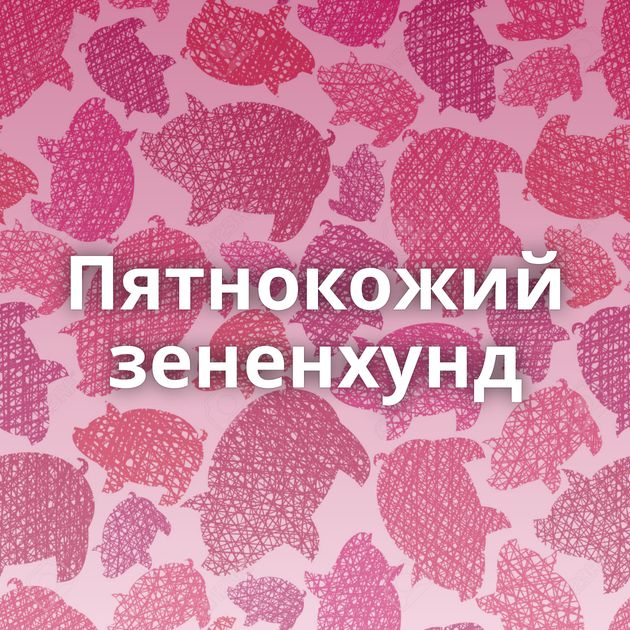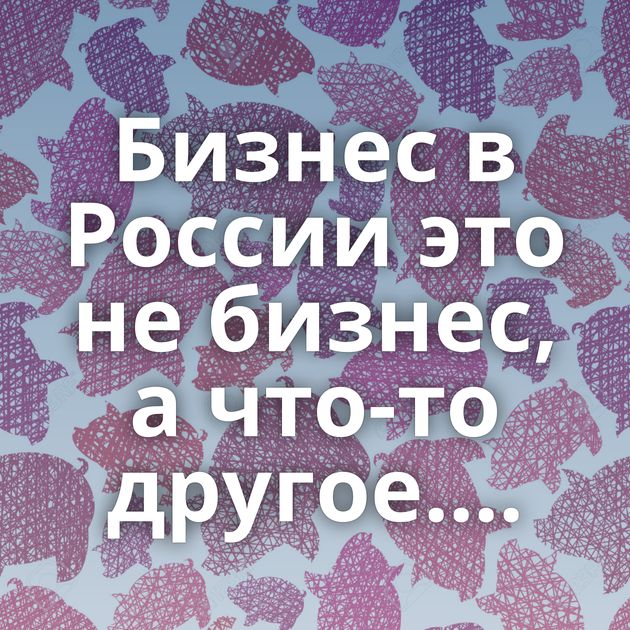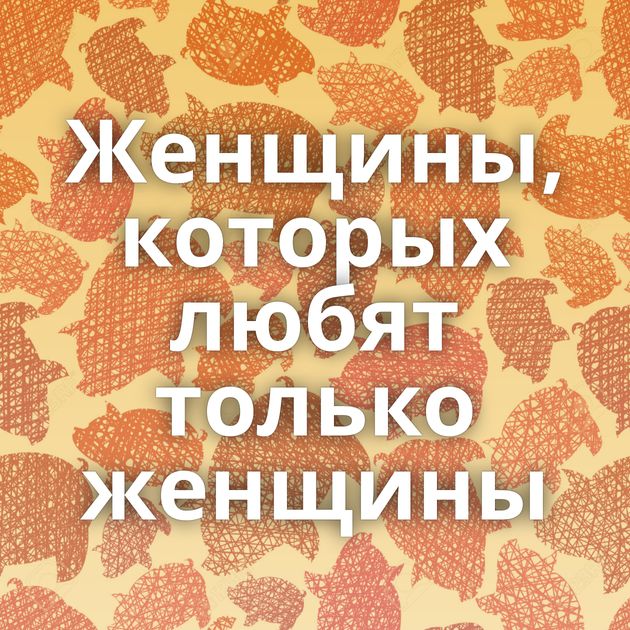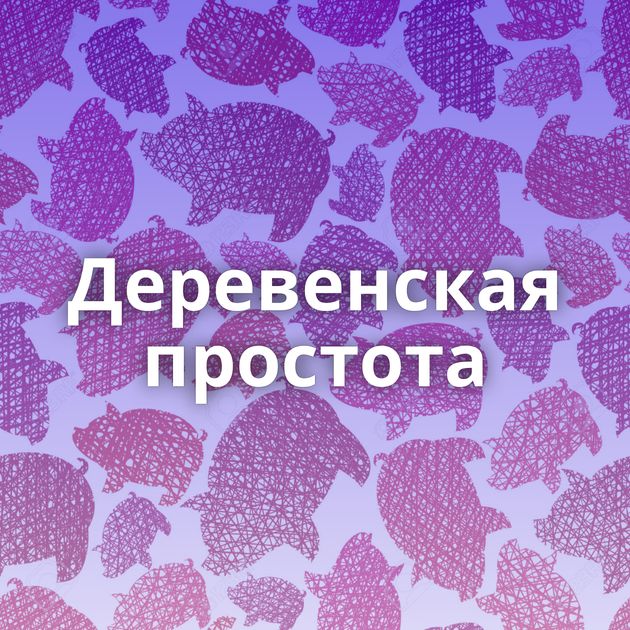6 февраля 2020 года в 14:24
Ириска
На первом этаже жила Абрамовна, старуха с носом, заклеенным пластырем. Под пластырем была какая-то незаживающая язва. И вообще вся эта Абрамовна была какая-то незаживающая. Это теперь я понимаю, что самая страшная болезнь, которой она хворала называлось одиночество, но тогда, я десятилетний мальчишка, мало разбирался в диагностике. В прочем, и сейчас, наверное, не очень хорошо разбираюсь.
А кто разбирается?
Абрамовна каждый день ставила табуретку на лестничной площадке, усаживалась на нее и смотрела на лестницу в надежде кого-нибудь увидеть.
Она сидела перед раскрытой дверью в свою однокомнатную старушечью квартиру, из которой жутко пахло затхлостью, старостью и чем-то неуловимым, происхождение которого мне распознать не удавалось.
Когда кто-то спускался вниз, Абрамовна оживала. В ее глазах появлялось подобие блеска, она выпрямляла спину, стараясь выглядеть более презентабельно, кивала заклеенным пластырем носом и здоровалась.
Ей, наверное, хотелось чего-то большего. Даже пусть не разговора по душам, на это она даже не надеялась, хотя бы простого "Как здоровье, Абрамовна?" было бы предостаточно для того, чтобы день считался крайне удачным.
Она бы никого бы не стала напрягать развернутым ответом, рассказом о походе к врачу и вообще абсолютно ничем. Она бы ответила что-то вроде "Спасибо, хорошо". И была бы счастлива.
Но люди в основном просто кивали, про себя чертыхаясь из-за этой неприятной старухи, которая "провоняла своей квартирой" весь подъезд.
Моя мама, когда спускалась вниз, а жили мы на третьем этаже, всегда здоровалась. И даже спрашивала про здоровье. Наверное именно поэтому Абрамовна иногда поднималась на третий этаж, шаркая варикозными ногами, обутыми в старые домашние тапки.
Она подходила к нашей квартире, робко стучала в дверь. Звонить она не решалась.
Мама открывала, здоровалась, спрашивала как здоровье.
Абрамовна кривила рот в подобии улыбки, благодарила, отвечала, что хорошо, и уходила назад, спускаясь по ступенькам и придерживаясь скрюченными пальцами за перила.
Ей просто нужно было получить дозу человеческих слов, чтобы заглушить боль одиночества и ненужности.
Мне было десять лет. Я пролетал мимо табуретки с сидящей на ней Абрамовны, зажав пальцами нос. Наверное Абрамовна это видела.
Однажды я возвращался домой с велосипедом, который приходилось тянуть на третий этаж, поэтому быстро пробежать мимо нее не удалось. А тут еще этот шнурок.
Одним словом, я споткнулся, уронил велик и шлепнулся прямо перед Абрамовной.
Чертыхаясь, я поднялся, и увидел перед глазами ириску.
-Тебе больно?- услышал я голос старухи- Вот, возьми...
-Нет- коротко ответил я, схватил велосипед и, рассерженный обидным падением, поплелся наверх. Абрамовна с протянутой мне ириской осталась внизу.
Я рос в те благословенные времена, когда в подъездах не было домофонов, а велик можно было оставить прямо возле квартиры. Я так и поступил. А через пару дней нашел эту самую дурацкую ириску в бардачке велосипеда.
Дети бывают жестокими. Ириску я выбросил.
А потом Абрамовна умерла. Я помню, как какие-то незнакомые люди выносили маленький, будто бы детский, гроб, в котором лежала Абрамовна. Нос у ней был также заклеен, она даже одета была так же...
Родственники на похороны не приехали. Говорят, что не было у нее никаких родственников, а те, кто были, в том числе дочь, погибли во время войны. Подробностей никто не знает, черт разберет, через какие горнила прошла эта маленькая старуха с заклеенным носом.
Потом в квартиру въехали другие жильцы, какая-то молодая пара. В этот день у мусорного бака я нашел ту самую табуретку, на которой когда-то сидела Абрамовна. Она лежала на земле. Квинтэссенция одиночества. Как и ее бывшая хозяйка. Одиночества, от которого умирают люди.
Прошло много лет. Я в жизни не один раз делал вещи, за которые было стыдно. Впрочем, как и каждый из вас. Зря я выбросил ириску. Надо было ее съесть.
- Александр Гутин
А кто разбирается?
Абрамовна каждый день ставила табуретку на лестничной площадке, усаживалась на нее и смотрела на лестницу в надежде кого-нибудь увидеть.
Она сидела перед раскрытой дверью в свою однокомнатную старушечью квартиру, из которой жутко пахло затхлостью, старостью и чем-то неуловимым, происхождение которого мне распознать не удавалось.
Когда кто-то спускался вниз, Абрамовна оживала. В ее глазах появлялось подобие блеска, она выпрямляла спину, стараясь выглядеть более презентабельно, кивала заклеенным пластырем носом и здоровалась.
Ей, наверное, хотелось чего-то большего. Даже пусть не разговора по душам, на это она даже не надеялась, хотя бы простого "Как здоровье, Абрамовна?" было бы предостаточно для того, чтобы день считался крайне удачным.
Она бы никого бы не стала напрягать развернутым ответом, рассказом о походе к врачу и вообще абсолютно ничем. Она бы ответила что-то вроде "Спасибо, хорошо". И была бы счастлива.
Но люди в основном просто кивали, про себя чертыхаясь из-за этой неприятной старухи, которая "провоняла своей квартирой" весь подъезд.
Моя мама, когда спускалась вниз, а жили мы на третьем этаже, всегда здоровалась. И даже спрашивала про здоровье. Наверное именно поэтому Абрамовна иногда поднималась на третий этаж, шаркая варикозными ногами, обутыми в старые домашние тапки.
Она подходила к нашей квартире, робко стучала в дверь. Звонить она не решалась.
Мама открывала, здоровалась, спрашивала как здоровье.
Абрамовна кривила рот в подобии улыбки, благодарила, отвечала, что хорошо, и уходила назад, спускаясь по ступенькам и придерживаясь скрюченными пальцами за перила.
Ей просто нужно было получить дозу человеческих слов, чтобы заглушить боль одиночества и ненужности.
Мне было десять лет. Я пролетал мимо табуретки с сидящей на ней Абрамовны, зажав пальцами нос. Наверное Абрамовна это видела.
Однажды я возвращался домой с велосипедом, который приходилось тянуть на третий этаж, поэтому быстро пробежать мимо нее не удалось. А тут еще этот шнурок.
Одним словом, я споткнулся, уронил велик и шлепнулся прямо перед Абрамовной.
Чертыхаясь, я поднялся, и увидел перед глазами ириску.
-Тебе больно?- услышал я голос старухи- Вот, возьми...
-Нет- коротко ответил я, схватил велосипед и, рассерженный обидным падением, поплелся наверх. Абрамовна с протянутой мне ириской осталась внизу.
Я рос в те благословенные времена, когда в подъездах не было домофонов, а велик можно было оставить прямо возле квартиры. Я так и поступил. А через пару дней нашел эту самую дурацкую ириску в бардачке велосипеда.
Дети бывают жестокими. Ириску я выбросил.
А потом Абрамовна умерла. Я помню, как какие-то незнакомые люди выносили маленький, будто бы детский, гроб, в котором лежала Абрамовна. Нос у ней был также заклеен, она даже одета была так же...
Родственники на похороны не приехали. Говорят, что не было у нее никаких родственников, а те, кто были, в том числе дочь, погибли во время войны. Подробностей никто не знает, черт разберет, через какие горнила прошла эта маленькая старуха с заклеенным носом.
Потом в квартиру въехали другие жильцы, какая-то молодая пара. В этот день у мусорного бака я нашел ту самую табуретку, на которой когда-то сидела Абрамовна. Она лежала на земле. Квинтэссенция одиночества. Как и ее бывшая хозяйка. Одиночества, от которого умирают люди.
Прошло много лет. Я в жизни не один раз делал вещи, за которые было стыдно. Впрочем, как и каждый из вас. Зря я выбросил ириску. Надо было ее съесть.
- Александр Гутин
Loading...
Чтобы оставить комментарий, необходимо авторизоваться:
Смотри также